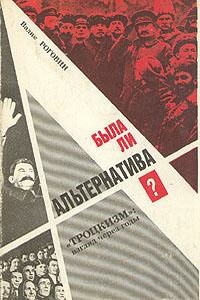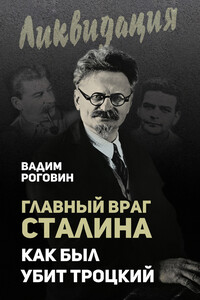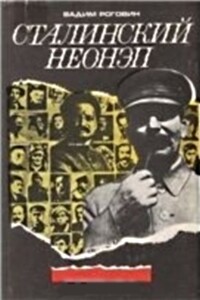1937 | страница 60
Конечно, ни Троцкого, ни Седова не сажали в раскалённую камеру, как Зиновьева, не пропускали через девяносточасовой конвейерный допрос, как Мрачковского, с ними коварно не играли, как с Бухариным (хотя последний, как будет видно из дальнейшего изложения, как бы сам напрашивался на такую игру). Но судьбу и Троцкого, и его сына, подвергавшихся непрерывной слежке и опасности террористического покушения, никак нельзя назвать благополучной. Закономерным финалом длительной охоты за ними стала трагическая гибель первого в 1940, а второго — в 1938 году.
Говоря о поведении подсудимых, Седов отмечал поверхностность его сопоставления с поведением Димитрова на Лейпцигском суде. Димитров, как и другие борцы с гитлеризмом, не был изолирован от революционного движения, он чувствовал резкое политическое размежевание (фашизм — коммунизм) и массовую поддержку прогрессивных сил всего мира. Московские же подсудимые, «хотя и стояли перед термидорианским судом сталинских узурпаторов, но всё же судом, который своей фразеологией апеллировал… к Октябрьской революции и социализму. Наряду с чудовищными моральными пытками инквизиторы из ГПУ, разумеется, использовали и эту фразеологию, в частности, и военную опасность. Она не могла не помочь им сломить этих несчастных подсудимых» [156].
Напоминая, что, согласно свидетельствам сталинских узников, сумевших вырваться из СССР, ГПУ широко прибегало к угрозам расправы с семьями обвиняемых и к жестоким конвейерным допросам («один и тот же вопрос ставится с утра до ночи в течение недель стоящему на ногах подследственному»), Седов высказывал уверенность, что при подготовке процесса 16-ти использовались и «пытки из арсенала самой чёрной и страшной инквизиции». Однако, несмотря на всё это, у всех подсудимых из числа старых большевиков, как писал с глубоким сочувствием к их судьбе Седов, «нашёлся последний остаток сил, последняя капля собственного достоинства. Как ни были они сломлены, но никто из стариков не взял на себя, просто физически не мог взять на себя — „связь с гестапо“. Мы считаем — это может показаться парадоксальным на поверхностный взгляд, что внутренняя моральная сила Зиновьева и Каменева весьма значительно превосходила средний уровень, хотя и оказалась недостаточной в условиях совершенно исключительных» [157].
Седов сумел доказать, что подсудимые были выделены «путём долгого и страшного следствия из 50 или даже большего числа других заключённых-кандидатов». Для подтверждения этой гипотезы он использовал существенную промашку, допущенную организаторами процесса. В судебном отчёте с бюрократической аккуратностью указывались номера дел каждого подсудимого. Расположив фамилии одиннадцати подсудимых в алфавитном порядке, Седов обнаружил, что их дела включали номера от 1 до 29. «Кто же остальные восемнадцать? Нам кажется очень вероятным, что за отдельными исключениями, вроде Сафоновой… эти „недостающие“ подсудимые были из тех, кого Сталину не удалось сломить и кого он, вероятно, расстрелял без суда»