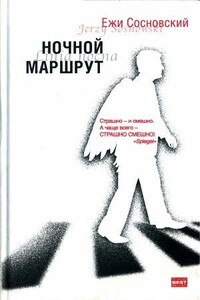Сказитель из Марракеша | страница 20
— Молчи, Мабрука! Этот мальчишка выставил меня дураком, да еще перед чужими.
Мустафа теперь упирался спиной в стену. Загнанный в ловушку, он скорчился, почти распластался на земле. Отец навис над ним. Раболепная поза не помогла. От одного яростного удара, сотрясшего воздух подобно грому, Мустафа пролетел почти через весь двор.
Я было шагнул вперед, но отец остановил меня взглядом.
Мустафа, шатаясь, поднялся. Отпечаток отцовской руки был как клеймо на его лице. Он пару раз кашлянул и как бы удивленно покачал головой. Изо рта хлынула кровь. Мама пронзительно вскрикнула, но отец заступил ей дорогу. Непроизвольно дрожа, мой маленький брат побрел к деревянной калитке, вышел за пределы дворика. Мама хотела бежать за ним, отец остановил ее грубым окриком:
— Не смей утешать его. Это будет ему хороший урок.
Бессильные что-либо предпринять, мы провожали Мустафу взглядами. Он брел мимо валунов, оторочивших ближнюю гору. Мама упала на колени и заплакала, завыла:
— Мое дитя! О мое бедное дитя!
Едва отец исчез в доме, как Ахмед будто забыл, что сам же и позвал маму, отстранился от происходящего.
Я обнял ее, задыхаясь от сдерживаемых слез.
Мустафа не возвращался до позднего вечера и еще много дней не разговаривал с нами. Красное пятно на его лице потемнело, сделалось багровым, затем — мраморно-черным.
Пагуба
В тот вечер на Джемаа, глядя вслед быстро удалявшемуся Мустафе, я вспомнил случай с прививками. Мустафа растворился в сумраке прежде, чем я успел остановить его; манера ухода тяготила меня не меньше, чем тогда, давно, в раннем детстве Мустафы. Я боялся за брата и не мог продолжать свою историю.
Я окинул взглядом площадь и вспомнил предупреждение Саида. Мне хотелось сослаться на плохое самочувствие, попросить прощения у слушателей и вовсе уйти с площади. Мне хотелось даже пуститься на поиски моего заблудшего брата с целью вразумить его.
Но я ничего этого не сделал. Блюдя обязательства перед слушателями, я заставил себя вернуться к начатой истории. Я отмахивался от собственной совести, требовавшей следовать за братом; я стал пленником своего ремесла.
Вот почему вскоре я поймал себя на том, что говорю о площади Джемаа в нехарактерно мрачных выражениях, что изображаю ее колдуньей, старой как мир, но с лицом и голосом юной девы; непостоянным существом, которое порой заботится о своих детях — тех, что живут здесь, и тех, что появляются от случая к случаю, — а порой вредит им и ввергает в великое горе.