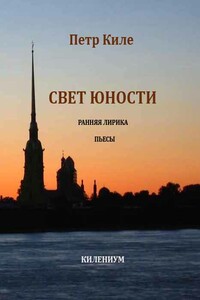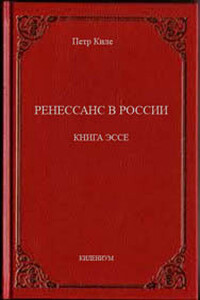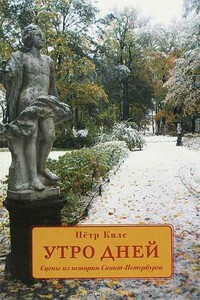Опыты по эстетике классических эпох | страница 34
Аристофан в кривом зеркале своих личин и смеха ошибался как в его устремлениях, так и в отношении Еврипида, слава которого началась именно после его смерти и далеко превзошла известность Эсхила и Софокла. Стало быть, бог театра Дионис, не по Аристофану, а истинный, именно Еврипида и вывел из аида, из забвения и смерти. Униженные поражением от Спарты, афиняне вскоре нашли виновника их бедствий. Это был, конечно же, Сократ, «развратитель юношества», то есть поколения Алкивиада и Крития с их безудержным честолюбием, с выдвижением собственных интересов и целей в ущерб общественным. Самосознание индивида в условиях полиса, недавно столь плодотворное в развитии поэзии и мысли, искусства и ремесел, в защите отечества, раздвоилось, с зарождением индивидуализма, что совпадает с разноголосицей философских воззрений на природу и богов, с признанием относительности истины и веры. Утверждение философа: «Человек есть мера всех вещей», возвышенное и высокое представление о человеке, что станет откровением в эпоху Возрождения, Критий, Ферамен, зачинатели олигархического переворота в Афинах в 411 году до н.э., подхватили как оправдание выдвижения своего Я, вместо народа, и права сильного (умом и богатством) преследовать свои цели за счет слабых, как в животном мире; равенство людей, по крайней мере, при рождении, что утверждал Еврипид, отвергается, словом, весь набор максим, освященных всеми религиями и ныне лежащих в основе взаимоотношений людей и народов. Человек человеку - волк. Коллективистское самосознание полиса (города-государства), идущее от первобытнообщинного строя, с полным самосознанием индивида, вплоть до утверждения собственных целей, отличных от общественных, дало трещину, роковую для единства народа и государства. Пелопоннесская война лишь расширила эту трещину, как землетрясение, и окончательно расшатала устои Афинского государства. По свидетельству Платона, вот как прозвучала речь одного из обвинителей Сократа на суде, а судей было числом 500 человек (нечто вроде суда присяжных). М е л е т. Заявление подал и клятву произнес я, Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софроникса из Алопеки. Я утверждаю: Сократ повинен и в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за это - смерть.
Мелет строит свое обвинение на том, что, мол, всем хорошо известно в Афинах; ведь Сократ давно стал излюбленной мишенью для шуток комических поэтов (Мелет тоже из комических поэтов), но то, над чем все смеются, не столь безобидно. Когда Сократ в комедии Аристофана «Облака» внушает своему ученику Фидиппиду, в котором, говорят, можно узнать молодого Алкивиада, что Зевса нет, а гром производят облака, и дети этому верят, а юноши горделиво это повторяют, тот же Критий, один из учеников Сократа, ставший затем самым жестоким из всех Тридцати тиранов, уже не до смеха.