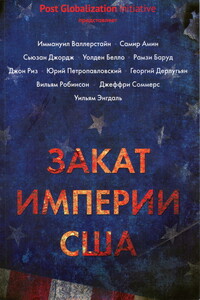Правда о капиталистической демократии | страница 11
Можно быть уверенным, что доклад не приминает упомянуть, что хотя «люди в Латинской Америке пользуются политическими правами, они стоят перед лицом высокого уровня бедности и самого высокого уровня неравенства во всём мире». Это противоречие подвигло авторов доклада на заключение, пусть и немного загадочное, что «между углублением демократии и экономикой есть несколько противоречий». Таким образом, хотя доклад приветствует главные достижения демократии в Латинской Америке, он не указывает на бедность и неравенство как их основные дефекты. Кроме того, этот доклад призывает к реализации политики, «которая расширяет демократию и в которой граждане являются полноценными участниками демократического процесса». Полное участие граждан подразумевает наличие свободного доступа к гражданским, социальным, экономическим и культурным правам и формирование из них неделимого и взаимосвязанного целого» 22 . К сожалению, авторы доклада останавливаются перед вопросом, почему этот полный перечень прав, предоставляемых на бумаге всеми капиталистическими государствами, на практике остаётся пустым звуком во всех неолиберальных обществах. И почему доступ к этим правам в любом случае всегда ограничивался в условиях капиталистических обществ? Почему это происходит: из-за случайного стечения обстоятельств или из-за системных классовых факторов?
В докладе нет ответов на эти вопросы, потому что природа противоречий между капитализмом и демократией не исследуется. На 284 страницах английской версии доклада слова «капитализм», «капиталистический» встречаются всего лишь 12 раз. Первое упоминание встречается только на 51 странице, причём, что удивительно, в цитате такого неприметного теоретика капитализма как Джордж Сорос; в действительности девять из двенадцати упоминаний встречаются в цитатах или в библиографических сносках доклада. Всего лишь три упоминания находится непосредственно в самом тексте. Конечно, это нежелание говорить о капитализме приводит к невосполнимым теоретическим потерям доклада. Как можно говорить о демократии в современном мире, если при этом нет желания даже упоминать слово капитализм? Как тогда понять признаваемые в докладе противоречия между «углублением демократии и экономикой»? Какие черты экономики необходимо винить за это? Её технологическую базу, её природные возможности, размер рынков, индустриальную структуру или что-нибудь ещё?
Проблема не в «экономике», а «капиталистической экономике» и её определяющей черте: извлечении и частном присвоении прибавочной стоимости и неминуемой социальной поляризации, которая из этого проистекает. Противоречия существуют не между двумя метафизическими сущностями «демократии» и «экономики», а между двумя конкретными историческими продуктами: демократическими ожиданиями масс и железными законами капиталистического накопления, и эти противоречия существуют и воспроизводятся, поскольку капиталистическое накопление не предоставляет пространства для воплощения демократических ожиданий в иной форме, чем девальвированные «либеральные демократии», преобладающие в мире. Тот, кто не хочет говорить о капитализме, должен воздержаться от разговоров о демократии.