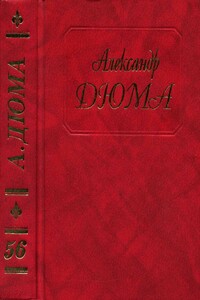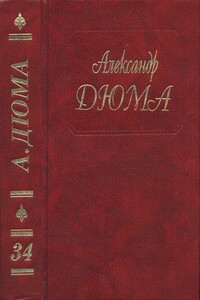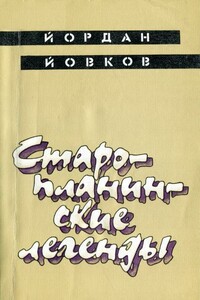Платеро и я. Андалузская элегия | страница 10
Кто-то, наконец, прибегает с медяком на ладони. Протискивается вперед и приникает к окуляру.
— Сейча-а-а-ас будет генера-а-а-ал... на белом ко-не-еее!.. — отвратительно затягивает старик и бьет в барабан.
— Барселонский... порт!.. — и новая дробь.
Прибегают еще и еще дети, с медяком наготове, издали тянут его старику, возбужденные, спеша купить свою фантазию.
Старый зазывала скучно заводит:
— Крепость... Гава-а-аны! — и бьет в барабан.
Платеро, который вкупе с девочкой и собакой тоже явился смотреть, балуясь, расталкивает детвору огромной головой. Старик, неожиданно подобрев, кричит ему:
— Гони монету!
Безденежные дети дружно и невесело смеются, глядя на старика с угодливой и покорной мольбой...
Басня
Я с детства, Платеро, безотчетно боялся басен, как боялся церквей, жандармов, тореадоров и аккордеонов. Бедные звери, несшие чушь устами баснописцев, были в них так же ненавистны мне, как и в тишине смрадных шкафов кабинета зоологии. Каждое слово, сказанное ими, то есть неким господином, вечно простуженным, желтым и сморщенным, походило на стеклянный глаз, каркас крыла, муляж ветки. Позже, когда в цирках Уэльвы и Севильи увидал я дрессированных зверей, басня, забытая вместе с наградами и прописями в покинутой школе, всплыла как дурной сон моего детства.
С говорящими животными, Платеро, примирил меня, уже взрослого, один баснописец, Жан де Лафонтен, и стих его порой казался мне подлинным голосом сойки, голубя или козы. Но я всегда откладывал, не читая, мораль, этот сухой привесок, огарок, ощипанный хвост концовки.
Само собой, Платеро, ты не осел в расхожем смысле слова, равно как и в любом ином по словарю Испанской академии. И если ты осел (в чем я не сомневаюсь), то осел в моем понимании. У тебя свой язык, и ты не знаешь моего, как я не знаю ни языка розы, ни соловьиного. И потому не думай, глядя на мои книги, что мне взбредет однажды сделать тебя болтливым персонажем басенки, твою звучность перемешав с петушьей либо журавлиной, чтоб вывести в конце, курсивом, пустую и холодную мораль. Не бойся, Платеро.
Хлеб
Я говорил тебе, Платеро, что душа Могера — вино? Нет, душа Могера — хлеб. И сам Могер, подобно пшеничному хлебу, внутри бел, как мякиш, а снаружи — смуглое наше солнце! — золотист, точно хрусткая корочка.
В полдень, когда солнце печет, весь городок начинает куриться и пахнуть сосной и хлебом. Все раскрывается и движется. Словно огромный рот ест огромный хлеб. И все отдает хлебом — похлебка, сыр и виноград, — оставляя привкус поцелуя; хлебом дышит вино, соус, мясо и сам он — такой хлебный. Нередко один, как надежда, или сдобренный несбыточным...