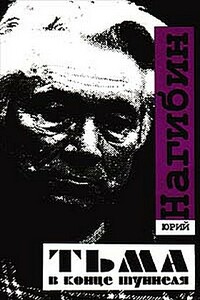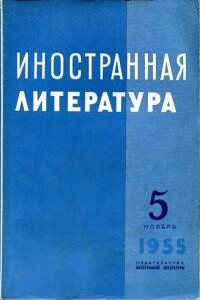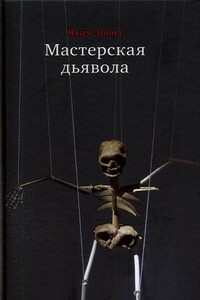Дневник | страница 40
Всё это не то. Мне хотелось написать о чем‑то добром, Добром, что пробудилось во мне с приездом М., но разучился я писать для самого себя…
День такой скверный, что хуже не бывает. Для его ожесточенной гадости нужен был разгон, и накануне Я. С.[32] угостил меня «большим разговором» о моей бездарности. Разговор этот был так не к месту, так вразрез с настроением и так под руку, что его трудно простить.
Утром звонок из Кохмы — М. заболел. Неотвязная мысль о том, что крошечный человек мучается в гнусной Кохме, в полном одиночестве, подлое ощущение своей дрянности и сухости — ехать‑то мне не хочется. Затем поход к Цигалю — ненужный, выбивающий из колеи. Потом люди, один другого ненужней… Затем, словно впервые, увидел я Веру. Похожа на грязную половую тряпку, мятая, бескостная, такая дряхлая, что больно смотреть. Единственный упор в ее теле создал радикулит, искривив и выпятив какую‑то кость в области поясницы. Кажется, исчезни этот упор, порожденный болезнью, и она сомнется, скомкается, как груда старого тряпья. Жалко ее очень, и ничего нельзя поделать. Так и будешь следить равнодушно (к сожалению, не до конца равнодушно) за умиранием близких людей. И нельзя ни просьбами, ни слезами, ни силой удержать их от смерти.
А вечером около забегаловки, куда я попал по милости своего безволия, пьяненькая, маленькая, не старая бабенка говорила, дожевывая кусок вареной колбасы:
— Я пьяная! Так ведь у меня выходной. Я, думаете, плохая? Нет, я хороший, рабочий человек. — И помолчав. — Пойдемте ко мне.
Сказалось это не из похабства, а из простого, искреннего желания и веры, что сегодня всё будет у нее хорошо. Она совсем не была противна, хоть и убогая, жалкая. И я ее так хорошо понимал: выпила, разогрела сердчишко. Я бы пошел с ней, если бы не трусость.
Но страшен день был не людьми, даже не мыслями о М., — ощущением полного банкротства, и моего собственного, и тех, кого я люблю, банкротства, за которым один путь — в яму.
Сегодня я с удивительной силой понял, как страшно быть неписателем. Каким непереносимым должно быть страдание нетворческих людей. Ведь их страдание окончательно, страдание «в чистом виде», страдание безысходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что обо всем этом когда‑нибудь напишу. Боль становится осмысленной. А ведь так, только радость имеет смысл, потому что она радость, потому что — жизнь. Страдание, боль — это прекращение жизни, если только оно не становится искусством, то есть самой концентрированной, самой стойкой, самой полной формой жизни.