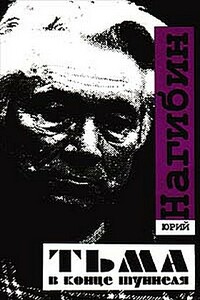Дневник | страница 35
Угнетающее сознание собственного душевного огрубления. Особенно остро это почувствовалось на проводах М. Залегкомысленничал всё это то ли из самозащиты, то ли из душевной иссушенности.
В чем причина? Когда не можешь писать о страшном, жить этим страшным всерьез, начинаешь обороняться от него. Видно, я дозащищался до полной пустоты. Пустоты отнюдь не трагической, уютной, как подмышка, гнусненькой, как засаленная постель, комнатной пустоты.
Мужики в окопах грозились: «Вот зададим мы перцу бабам!» Приехали с войны, а силенок уж нет. Как бы и со мной так не случилось.
И еще — страх. Вот, пожалуй, самое неживотворное чув ство. Из всего могут родиться слова: из грязи, пороков, ошибок и запоздалых раскаяний, но только не из страха. Даже >из сильного, но короткого страха может что‑то возникнуть, но не из постоянного, ровного, душного, как перина. А этот год так насыщен страхом, что даже не такая жалкая душа, как у меня, и та бы съежилась.
Читаю Светония. Цезари отнюдь не являют собой исключительности. Самые обычные мещане, поставленные в условия полного раскрытия своих характеров, страстей, темпераментов, вожделений. Насколько сильно заложено в человеке стремление до конца развернуть свой характер, если однообразно — плачевные судьбы римских властителей никому не послужили предостережением. В том‑то и страх, что это самые обычные люди, которым до поры позволено все делать.
Я скажу родителям: довольно, я выполнил свой долг перед вами. До тридцати лет я пронес себя сквозь войну, сквозь страх, сквозь пьянство — это ли не подвиг самосохранения! Растерялось многое из бывшего во мне, но я сохранил то, что нужно вам: свое тело до последней клеточки и даже более тонкую видимость человека. Довольно, мне тридцать лет, и я имею право на самоуничтожение.
Родители — про себя — «он пугает, а нам не страшно».
Дикая ирония: весь день восхвалять «бога», а ночью трястись от страха перед «громом небесным».
Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно хотя и с большим вредом позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое — разрушение личности. Только халтура — более убийственное. Приятная, наверное, у меня личность, если мне необходимо во что бы то ни стало от нее отделаться.