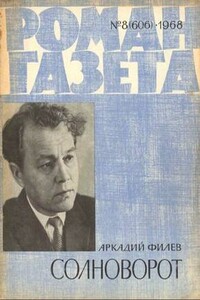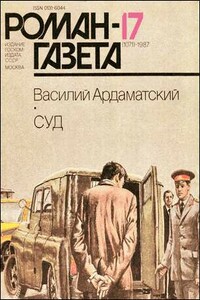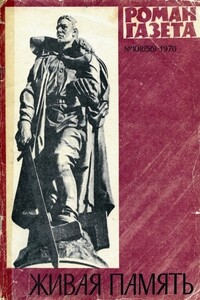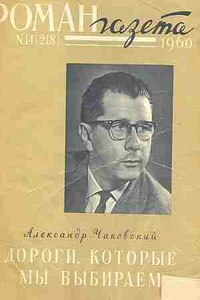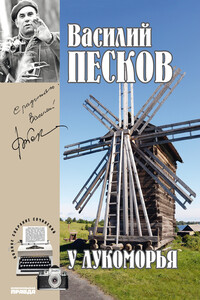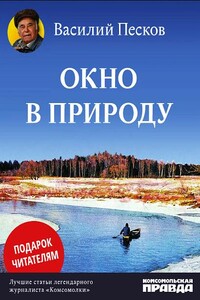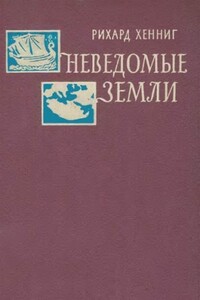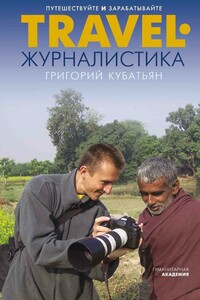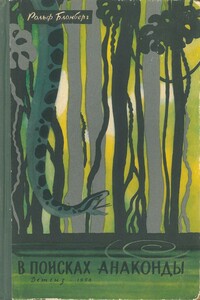Дороги и тропы | страница 28
В мастерской работает примерно треть взрослых жителей Ломоносова. Остальные — в колхозе. Колхоз в здешних местах считается средним, хотя его покупкам последних лет можно и позавидовать: четырнадцать тракторов, пять автомобилей, три комбайна...
Главная забота у председателя — люди.
— После окончания школы все норовят в город. Что делать, есть пример — Ломоносов! Попробуй удержать, — улыбается председатель. — Второй Ломоносов пока из деревни не вышел, но есть кандидаты наук, преподаватели, медики...
Нелегко председателю. С одной стороны, похвалиться не грех: вот, мол, наши куда пошли... А с другой стороны — хозяйство. Благополучие деревни зависит от тех, кто мимо памятника ходит сегодня в школу...
А есть ли сегодня в деревне фамилия Ломоносов? Оказалось, нет. И не было с тех пор, как ушел в Москву Михаил и умер его отец Василий Дорофеевич. Но в разных местах живет более сотни родичей Ломоносова. В самой деревне живет только один из них: Лопаткин Дмитрий Михайлович. Мне о нем рассказали еще в Архангельске: «Обязательно попроси показать медаль, она у него всегда в кармане».
Старику без года девяносто. Белобородый. Моргает слезящимися глазами и сразу лезет в карман.
— Медаль, дедушка?
— Медаль! — радостно кивает старик. — Я родня ему...
Старик долго служил почтальоном. В 61-м году, когда справляли юбилей Ломоносова, ему определили пенсию и в связи с родством подарили медаль с изображением предка. Медаль, похоже, продлила старику жизнь. С удовольствием сидит в президиумах, ходит на пионерские сборы...
Я уезжал из деревни по весенней распутице. В том году необычно рано пришла весна на Двину. На ивах сидели скворцы. На проталине молодые земляки Ломоносова гоняли футбольный мяч. А над рекой возле лодок я сделал снимок мальчишки. Я подумал: может быть, вот так же и даже на этом месте стоял и Михаил Ломоносов. Сколько у нас деревень и сколько растет мальчишек! И среди них есть, обязательно есть еще неведомый никому Ломоносов.
МОГИЛА НАД ИССЫК-КУЛЕМ
Часов десять мы ехали над Иссык-Кулем. Вода отражала небо и была то серой, то бирюзовой, то мягко-молочного цвета. Мы сделали крюк, чтобы поклониться могиле Пржевальского, и километрах в двадцати от нее остановились собрать полевых цветов...
Эти места над Иссык-Кулем Пржевальский видел не один раз. Тут в самом начале очередного похода подстерегла Пржевальского болезнь, которую он не смог одолеть. Старая книга в музее хранит подробности последних дней великого человека. За двадцать часов до смерти Пржевальский позвал лекаря: «Скажите, доктор, я скоро умру?.. Скажите правду. Смерти я не боюсь. Мне надо сделать распоряжения...»