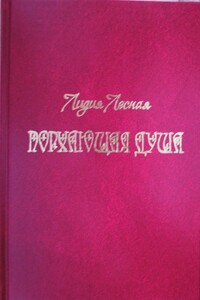Милосердная дорога | страница 37
О «Двенадцати» написано много и будет написано еще больше. Одни видят в «Двенадцати» венец художественного достижения и все творчество Блока предыдущих периодов рассматривают как подход к этому достижению; для других «Двенадцать» — стремительное падение в бездну низкого политиканства. О «Двенадцати» пишут и те, кто ничего, кроме «Двенадцати», из произведений Блока не читал; о Блоке, как поэте, судят люди, ничего, кроме отзывов о «Двенадцати», не читавшие.
Туман современности, еще не рассеявшийся, кутает эту поэму в непроницаемую броню; художественная ее ценность слабо излучается сквозь серую пелену, и только смутно давят душу очертания тяжеловесного целого. Опубликованная в недавнем времени заметка Блока о «Двенадцати», не разъясняя ничего, подтверждает только искренность его творческих замыслов — искренность, в которой никто из знающих Блока не сомневался.
Если художественное произведение неясно, то никакие комментарии ничего к ним не прибавят. Ясность, однако, приличествует мысли, и поскольку в «Двенадцати» отразилось отношение Блока к современности, оно может быть освещено и проверено памятью об авторе как человеке. В представлении многих, Блок, по написании «Двенадцати», стал «большевиком»; приняв свершившееся, понес за него ответственность. Столь примитивное толкование устраняется даже тем немногим, что доступно в настоящее время обнародованию из личных о нем воспоминаний.
«…на память о страшном годе» — написал Блок на моем экземпляре «Двенадцати», а весною этого года, перебирая вместе со мною возможные названия для своей книги, сказал уверенно: «Следующий сборник (после “Седого утра”), куда войдут “Двенадцать”, и “Скифы”, я назову “Черный день”».
Этого «страшного» и «черного» не обходил он молчанием в разговорах, не смягчая и не приукрашивая, а лишь пытался осмыслить и освятить. «Бубновый туз», по которому томят спины «двенадцати», принимал в этих разговорах очертания рельефные и законченные; роскошество программной фразеологии не заслоняло от него картины происходящего.
«В их социализм я не верю; социализм, конечно, невозможен; дело не в социализме, — говорил он в середине 1918 года, — да и они стали другими; пережив победу, они не те, что были раньше».
В чем же «дело»? Для Блока — в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель-вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и освятил его именем Христа.