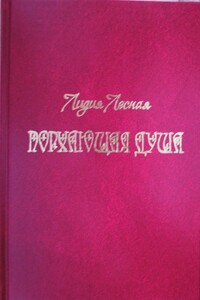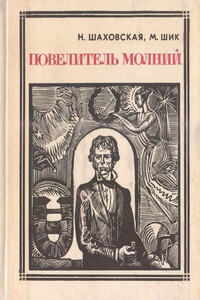Милосердная дорога | страница 18
<1925>
Русская стихотворная эпитафия. СПб., 1998.
Сид
H. О. Лернеру
28 августа 1925, Ольгино
«Простор». Алма-Ата. 1993, № 5 (публ. В. Э. Молодякова).
МЕМУАРНАЯ ПРОЗА
БЛОК
Недели и только дни отделяют нас от 7 августа; память хранит подробности жизни и смерти поэта, а образ мирового Блока, теряя, одну за другою, черты случайного и временного, стремительно удаляется, как бы на наших глазах, в вечность. Вот уже на рубежах ее, в сонме великих теней, благословенная тень усопшего, и в хоре имен, звучащих как вечность, готово зазвучать новой и сладостной музыкой новое имя — Блок.
«Он между нами жил»… Точнее, он прошел перед нами. Прошел медлительно, царственно-неторопливо, и каждому из нас заглянул в глаза и каждому дал срок заглянуть в свою душу и въяве созерцать образ воплощенного Богом гения. В этом мире, страшном, по его словам, и прекрасном, принял он, покорный необходимости, судьбу человеческую; жил и умер как человек. Но печать величия нездешнего и нечеловеческого присуща была каждому слову ушедшего, каждому звуку его голоса, каждому его взору. Только безнадежно-низкие, те, кого Бог, в гневе своем, отметил душевною слепотою, проходили мимо него, не волнуемые его образом. Немногие, которых он, по великому снисхождению своему и покорный укладу земной жизни, называл друзьями, любили его безотчетно и беспредельно и собственную жизнь свою осознавали в меру проникновения его творчеством. Другие — их было много — те, кого сводили с ним на короткий срок и вновь разводили пути повседневного труда, смутно, но непререкаемо ощущали его, как явление исключительное, не подчиненное обычным формам, и считались с его высотою, порой непосильною, но всегда убедительною. Третьи, наиболее многочисленные, знавшие Блока только по стихам его, постигали величие поэта по величию его творчества. Блок— поэт и Блок-человек сливались воедино. И если в дальнейшем кому-либо из них выпадало счастье видеть и слышать Блока, то разочарование, столь обычное при встречах с служителями искусства, не имело места: все прекрасное, все величавое, все таинственно-влекущее, что было в стихах Блока,