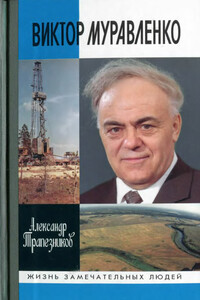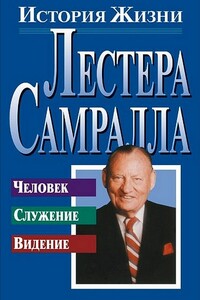Эммануил Казакевич | страница 3
Позднее, увлекшись ленинской темой, Казакевич так же капитально подошел к изучению личности Ленина и его произведений. Он осваивал многочисленные документы эпохи с тщанием исследователя, хотя образ Ленина волновал его прежде всего как художника.
Казакевич хорошо знал литературу, память у него была превосходная. Как-то заговорили при нем о популярных в начале века произведениях русских и западных декадентов, и выяснилось, что Казакевич многого не читал. Меры были приняты быстрые и решительные: за немалые деньги куплено у букиниста собрание сочинений Д.Мережковского, прочитаны сохранившиеся в библиотеке моего отца романы Ст.Пшибышевского, Ж.Гюисманса... И опять-таки с единственной целью - расширить свое представление о мире и людях. Как-то ему пришла в голову совершенно мальчишеская затея - составить список примерно из пятидесяти самых близких его сердцу деятелей науки и искусства и развесить по всей даче их окантованные портреты. Это было не так уж красиво, но увлекательно, как всякая игра. Теперь уже не помню всех, кто был занесен на эту своеобразную доску Почета, были там и Пушкин, и Бальзак, и Эйнштейн, и Чаплин, и о каждом из них Казакевич мог говорить с увлечением, каждый чем-то питал его внутренний мир.
Были ли мы близкими друзьями? Несомненно, и у меня, и у него были друзья более близкие. Слово "дружба" произносилось редко и неизменно присутствовало только в дарственных надписях на книгах. Наша близость проявлялась наиболее полно не в быту, а в откровенных разговорах, в сразу возникшем и укрепившемся с годами чувстве доверия. Летом мы подолгу бродили вдвоем и обсуждали все, что нас в ту пору занимало и волновало: политические события, литературную жизнь, книги и людей. Во многом сходились, иногда спорили, но, даже расходясь в оценках, понимали друг друга с полуслова. Существовал молчаливый договор, что наши беседы не рассчитаны на широкую аудиторию, он сохранил свою силу и теперь, скажу только, что на протяжении ряда лет у меня не было более увлекательного собеседника. Человек независимого и оригинального ума, Казакевич всегда стремился проникнуть в глубь любой проблемы, все догматическое, стандартное, банальное вызывало у него скуку или ярость. В его оптимизме не было ничего казенного, он верил в мощь многонациональной советской литературы, радовался появлению новых имен, но в своих оценках бывал бескомпромиссен, у него был свой счет, он мог прийти в восторг от рассказа никому не известного писателя и с убийственным сарказмом говорил о тех, кого считал "литературными временщиками". Казакевич был самолюбив, но не ревнив к чужому успеху, свободен от групповых пристрастий, в людях ценил дарование, ум и честность, глупость он еще прощал, но был непримирим к пошлости.