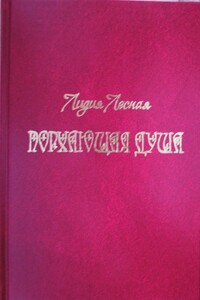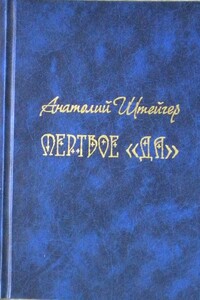Чужая весна | страница 67
«На самого себя покинутый» человек старается своими силами разрешить то запутанное, ускользающее и неразрешимое, что называется смыслом жизни.
Гордое одиночество («я никто и ничей»), одинокие поиски («я ощупью иду своей дорогой»), нежелание принять готовую общую веру («зачем мне рай, которым грезят все»).
Не может и любовь дать опору сердцу, потом что любовь для Анненского в корне своем страданье, неосуществимость мечты.
Любовь это тоже «мука идеала», идеала недостижимого; можно только мечтать о «лучезарном слиянье», но в действительности любовь оказывается или «роковым поединком» Тютчева, «проклятым огнем» (Анненский), который обугливает сердце, или она наполняет «одним дыханьем два паруса лодки одной», которым не дано «сгорая, коснуться друг друга». Любовь безнадежна, она только яснее доказывает человеческую разделенность и одиночество.
А жизнь — будничная, томительная, однообразная, с нудным вокзальным ожиданьем («…что-нибудь, но не это…»), невыразимым томлением, «не отмоленным грехом пережитого дня», с тем «нестерпимым однообразием», которое заставило воскликнуть Тютчева:
и Анненского:
Анненский томится по чудесному расцвету души, преображенной порывом, и его мучит несоответствие между «отвагой и победами мечты» и бессилием повседневности. Жизнь тягостна не только своим гасящим «нестерпимым однообразием», но и многими обидами, из которых самая страшная для гордого бунтующего человеческого «я» — неизбежность конца, обида «Лазарей, забытых в черной яме», «всех, чья жизнь невозвратима». «Слабому сирому сердцу», обнаженному в своей беззащитности, неоткуда ждать помощи.
Гордость и застенчивая нежность сердца, чуткого к обидам и томящегося по яркому горению, роднит Анненского с Тютчевым. Единственное, что можно сделать, чтобы уберечь сердце от лишних уколов — это скрыть его нежность, его глубину от посторонних глаз. И Тютчев заповедует в своем Silentium:
не только потому, что «мысль изреченная есть ложь», но и потому, что «их заглушит наружный шум, дневные ослепят лучи».