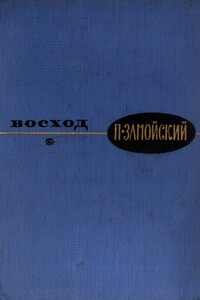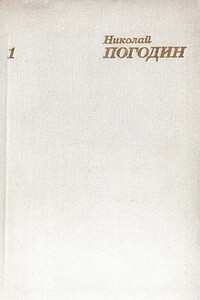Паутина | страница 39
Подойдя к Лизавете, он, однако, предупредил:
— Знаешь, Лизута, ты помолчи-ка на собрании про Минодору. Оклеветать человека легко, а обелить…
— А я, Коля, по-другому думаю, — тихо, но решительно перебила Лизавета. — Гляжу на Минодорины палаты и думаю про ту странницу, которую папаша подвез; уж не повесилась ли она в этих палатах, как та красноармейка? Вот так и кажется мне, что там — смерть!..
…Но Агапита осталась жива.
Поправлялась она медленно. Бывало, дома ее лечил плохой ли, хороший ли, но фельдшер. Здесь же, кроме снадобий, изготовленных Платонидой и приносимых Неонилой, больная не видела никакого лечения. Всем существом своим страшась проповедницы, она не пила ее зелья и выливала подозрительную жидкость в крысиные норы в углах своей кельи. Болея у себя дома, она могла даже посидеть возле открытого окна или выйти на крылечко — Павел иногда выводил ее из избы и усаживал на подушку. Здесь же одностворчатое оконце, помещающееся под самым потолком, выходит под крыльцо хозяйского дома; света в нем почти никогда не бывает, и открывается оно только с благословения самой странноприимицы. Свежим воздухом Агапита подышала всего два раза: вскоре после родов и сегодняшней ночью. В этом ей помогла Неонила. Когда все уснули, старуха вывела свою постоянную спутницу в курятник и с полчаса караулила, чтобы кто-нибудь не обнаружил их самовольной прогулки. Но как только сквозь щели курятника Агапита увидела небо и звезды, так снова ее душу наполнили тоска по воле и щемящая жалость к самой себе.
В ту ночь она не смогла заснуть.
Вернувшись в душную келью, Агапита почувствовала чрезмерное утомление и, даже не помолившись, легла на жесткий топчан. Под полом, визжа, возились крысы. По низкому потолку ползали мутные блики от теплившейся в углу лампадки. В еле заметную щель над дверцей проникал тусклый луч коридорного светильника. От рубашки на груди пахло молоком — сменить белье роженица могла, по канонам общины, лишь через десять недель. Женщине вспомнился ребенок. Кто он был, девочка или мальчик? Правду ли сказала Платонида, что он родился мертвеньким? Тогда неужели Агапите померещился громкий вскрик новорожденного? А если нет, то куда и кому подкинула младенца эта злобная уродица? Неонила обещала дознаться и сказать. Чей он был, кто его отец? Брат ли Агафангел, гнусавый прыщавый и мокрогубый верзила, или же брат Мафусаил, высоченный красавец, откровенно мечтающий об Америке? В ту кошмарную ночь оба эти странника были в закамской обители, с позволения тамошнего странноприимца пили самогон в молельне, спорили о войне, а когда Агапита уснула, один из них вошел в ее келью, погасил лампаду, в борьбе переломил женщине палец (теперь Агапита крестилась нечестивым двуперстием) и насильно стал отцом ее ребенка. Но младенец, конечно, жив. Агапите почудилось, будто дитя лежит рядом с нею на топчане — вот оно шевельнуло сначала ножкой, потом ручкой, вот затеребило рубашку на ее груди… Она вздрогнула — и что-то тяжелое и мягкое шлепнулось на пол: «Крыса!..»