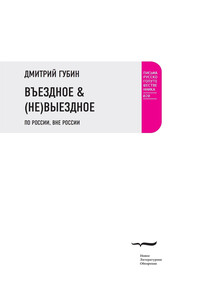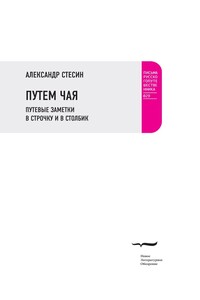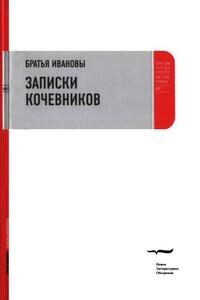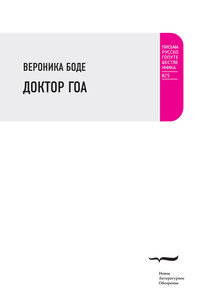На пути в Итаку | страница 55
Уперев спинку стула в стену кофейни, щурясь от нестерпимого солнечного блеска на плоских камнях, которыми выложена площадь, я вдруг ощущаю ее архаичную мощь. Цвет ее камней — это цвет пустыни. И гигантское тело крепости вдруг кажется не сооружением, а чем-то, что в принципе невозможно построить. Оно из разряда того, что является готовым сразу. Нужно только это обвести чертой. Или выложить камнем. Она вот такой родилась. Породив затем Медину.
Может, думаю, это ощущение оттого, что я про крепость знаю. Ну, скажем, про то, что в критические моменты в ней могло укрыться все население Медины. И месяцами выживать внутри. Да, и это тоже. Но не только.
Крепость сейчас как тело самой идеи города. Города как такового Как укрывища, как формы противостояния хаосу безбрежной пустыни и безбрежного моря. Как точки опоры человеческого в дочеловеческом.
Рибат — сердцевина Медины. Код ее. Хранимый на случай. Как хранят закваску или семена.
Это не мысль, это, можно сказать, непосредственное ощущение.
Ну а мысли все те же: вот она, Медина, «средневековый», «мусульманский», «арабский», «африканский» город — абсолютно живой город. И таким был он всегда и триста, и пятьсот лет назад: мечети, торговые лавки, караван-сараи, колодцы в камне, ремесленники, пекарни, визг сверла, запах кофе, шевеление на ветру вывешенного ковра. На редкость точно и разумно устроенный и бесперебойно функционирующий механизм. Идеально приспособленный к человеку. Точнее, наоборот — воспроизводящий человека в каждом поколении. И не нужно морочить себе голову словами типа «архаика» или «арабское средневековье». При чем тут время? Вот дом. Он стоял здесь всегда, он всегда был домом. Истлеют балки, разрушится крыша — заменят, но и с новой крышей или стенами он будет тем же домом.
Медина — это Город, в котором живем мы все.
Время в нем движется, но движется внутри. То есть особо не разделяя жизнь на прошлое и настоящее. Движение его нелинейно. Как, допустим, течение времени для леса — листья распускаются и опадают, трава зеленеет и желтеет. А деревья, лес остаются. Он всегда. Какой смысл может иметь слово «время» по отношению к нему? То, что было до леса, лесом уже не назовешь. И то, что после будет (неважно что — спекшаяся ли радиоактивная корка или ледяной панцирь), тоже — не лес. То же самое и город. То есть — человеческое сообщество. Это только наш зуд самоутверждения провоцирует на излишне серьезное употребление слов «современность» и «архаика». В основе этой оппозиции всегда присутствует еще и убеждение, что, двигаясь во времени, мы как бы взбираемся на гору, то есть каждый шаг делает нас «выше». И в каждый момент мы — самые-самые («современные», «продвинутые»), то есть имеющие право снисходительно оглядываться назад — с чувством превосходства и легкого сострадания к тому, как они, «бывшие раньше», трогательно беспомощны по сравнению с нами. Ничего не знают, бедные, про мобильники, cd-диски, зубную пасту «Колгейт» и группу «Тату».