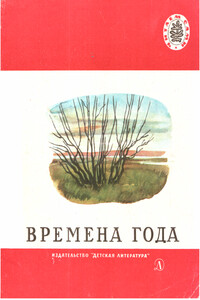О театре | страница 21
Мы говорим о близости театра больших страстей и потрясающих событий. Но едва герой этого театра вступит на подмостки, современная театральная публика покинет зал: ей уже не забавно и не смешно, ей неприятно громко; она устала, ей нужна мещанская жалобная жизнь на сцене или характеры, хотя бы самые утонченные, но все-таки удивительно смахивающие на ее собственный: безвольные, слабые люди, влекомые маленьким роком, обреченные маленькой смерти, терзающиеся от маленькой любви, ну хоть – призрачные персонажи Мориса Метерлинка, писателя, отметившего своим литературным талантом целую большую эпоху, но, как мне кажется, органически враждебного театру, посягнувшего кощунственно на ту область, которая ему недоступна; на те высоты, где холодно и страшно, он хочет идти в автомобильной куртке. На снежных пиках он хочет выстроить театр «мира и красоты без слез», «un theatre de paix et de beaute sans larmes». Но лавина, которая погребла под собою даже Ирэну и Рубека, расплющит его картонный домик, разнесет в щепы его уютную буржуазную постройку.
Вы говорите мне: не вы ли сами создали тепловатую атмосферу в театре? Ваши драматурги снизошли в наши будни, променяли снежные горы на наши мирные долины, разучились будить в нас высокие чувства, охладели к театральному действию и углубились в безысходную психологию; ваши актеры потеряли темпераменты и голоса, стали бездарными граммофонами, утратили чувство сцены. И вот – мы перестали нуждаться в вашем театре и ничего, кроме развлечения, от него не требуем.
Я отвечаю: в ваших словах есть правда. Особенно заслуживает внимания ваш упрек драматургам. Об актерах я еще поспорю: для меня вопрос – не лучше ли актеру хоть на некоторое время превратиться в жалкий граммофон, чем кощунственно превращать всякое литературное произведение в актерское достояние – кроить либретто из трагедий Шекспира, как делали это даже величайшие трагики недавнего прошлого? Заметьте, что чем гениальнее актер, тем меньше он (а вслед за ним и мы) обращает внимания на произведение, которое он играет, и высшим моментом театрального напряжения сплошь и рядом оказывается безмолвная сцена, которой автор не предвидел даже в ремарке (пример – Дузэ в «Даме с камелиями»).
Но если есть правда в ваших словах о драматурге и актере, то еще большая правда в том утверждении, что вы не вынесете того большого действия, которого мы страстно хотим и, смею думать, или достигнем, или погибнем. Ибо для усталых и пресыщенных людей, требующих или сверхобыденного, или сверхутонченного, поставивших перед собою заранее ширмы общественных, классовых и государственных условий, не под силу весенний ветер новой красоты и новой морали. Если современная публика скучает и пожимается на представлениях драм Ибсена, который, по собственному признанию, говорил лишь о том, что