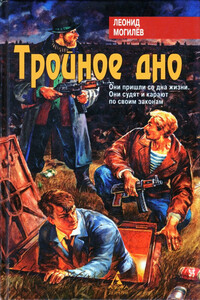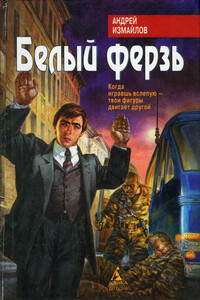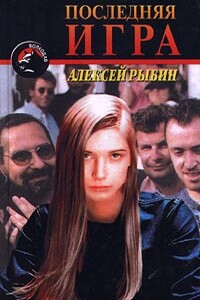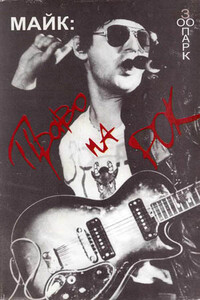Трофейщик | страница 73
Все Горбатый виноват. Проклятый лысый жид с отметиной на лбу. Все он. Развалил Союз, от которого дрожал весь мир. Весь мир! Американцы, засранцы, со своей жвачкой, как коровы, и не пикали тогда, сидели тихо, рубль был Рублем — что там эти вонючие доллары! Горбатый все продал жидам, все и всех. Молодежь во что превратил — музон американский повсюду, раньше длинные волосы в парадняках ножницами кромсали и по харе еще пару раз, чтобы не выдрючивались хиппаны сраные, — Роберт сам в народной дружине не один раз этих ублюдков ловил. Сейчас ходят, волосами, как флагами, машут, суки, улыбаться им приходится, сигареты стреляешь, а он смотрит на тебя сочувственно, гад, руки нежные, пальцы тонкие, кошелек откроет, а там доллары одни. Найдет тысчонку рваную, сунет тебе — на, подавись. И давишься этой водкой американской, из говна, что ли, они ее делают — дуреешь только, а веселья никакого. Точно, из говна. Чтобы вымерла русская нация подчистую, чтобы все здесь себе захапать. Кто защитит? Кто?! Эти хлюпики волосатые? Да они первые побегут — Америка, блядь, доллары!.. Свобода! Независимость! Гласность ебаная! Он бы всех этих писак лично расстрелял и не вздрогнул. Задушил бы, зубами бы рвал гадов: заморочили головы всей стране — «приватизация», «рынок». Вот он теперь во что превратился с этим их долбаным рынком! Ни квартиры, ни денет, ни друзей, ни жены — ничего. Всю жизнь горбатился, был уважаемым человеком, а теперь то разгрузит на Московском вокзале вагон с баночным пивом, то сворует чего-нибудь у пьяного прохожего… Откуда только силенки берутся — жрать-то не каждый день получается, но есть, есть еще мясо на костях грязных, чешущихся рук, по морде еще может дать Роберт подонку какому-нибудь. Да не стоит пока этого делать. Не стоит. А то не дадут на водку, на хлеб, лучше по-доброму, ласково глядя в глаза, просить, просить, умолять пока… Пока. А там посмотрим. Может, вернется еще его времечко. Ему-то вряд ли уж удастся по-человечески пожить, так хоть посмотрит, как будут душить эту зажравшуюся сволочь, посмеется тогда над этими жирными боровами, каждый день входящими в «Невский Палас», толпящимися у обменных пунктов, покупающими в ларьках «Мальборо» и опасливо сторонящимися его, Робертова, грязного пиджака — мордами их, мордами в грязь, в говно, сапогом по харям, по харям…
Роберт заворочался на равномерно разложенных тряпках. Он лежал, почти упираясь головой в клетку лифта, уже много лет не работающего и служившего для Роберта и его предшественников одновременно унитазом и мусоропроводом. На площадку шестого этажа этой лестницы в доме на Пушкинской, 10, кроме него, практически никто не забредал. Двери четырех квартир были крест-накрест заколочены досками, дворники не поднимались выше первого этажа, а жильцам снизу было все равно, что над ними происходит. Несколько раз изменив положение своего замерзшего на ночном холоде тела, Роберт понял, что заснуть снова ему уже не удастся. Он лениво поворошил рукой кучу тряпок, которые набрал вчера вечером во дворе, — кое-что вполне можно было носить и даже припрятать на зиму, места для хранения у него были в подвале, и он надеялся, что никто еще из его уличных дружков про них не пронюхал. На вокзал, что ли, сходить? Милиции он не боялся: милиция уже давно потеряла к бомжам всякий интерес — что с них взять, кроме вшей, а задерживать — куда сажать, чем кормить, морока одна с ними.