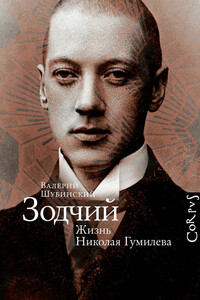Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий | страница 30
Но по крайней мере либеральные адвокаты уже готовы были слушать речь «декадента» о «крепостнике» — даже они чувствовали, что времена меняются. Пятью годами раньше выступление кого-то из символистов в подобной аудитории едва ли было бы возможно. (Кстати, тот же Любошиц еще чуть позже, по свидетельству Белого, стал «другом» декадентов.)
Издательство «Скорпион», основанное в 1900 году ближайшим другом Брюсова Сергеем Поляковым, меценатом из текстильных фабрикантов, лингвистом-любителем и переводчиком, выпускало книги русских «новых» писателей наряду с сочинениями Верлена, Гамсуна, Уайльда. Во втором выпуске скорпионовского альманаха «Северные цветы» счел возможным напечататься чуждый символистам, иронически к ним относившийся (но чтимый ими) Антон Чехов.
И наконец, в 1904 году, когда Ходасевич закончил гимназию, начал выходить самый значительный символистский журнал «Весы», субсидируемый Поляковым и редактируемый Брюсовым. Но к тому времени русский символизм был уже несколько иным. Именно 1900–1901 годы стали точкой перелома: смерть Владимира Соловьева, издевавшегося над «старшими» символистами и так почитаемого «младшими», выход «Кормчих звезд» — первой книги старшего по возрасту из «младших», Вячеслава Иванова, которого Соловьев как раз ценил и, можно сказать, благословил, первая публикация Блока. С этого момента два крыла движения — те, для кого символизм был лишь средством «выразить тонкие, едва уловимые настроения рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя»[65], и те, кому он казался «упреждением той гипотетически мыслимой, собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две раздельные речи — речь об эмпирических вещах и явлениях и речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте»[66], — существовали бок о бок, словно и не догадываясь о своей розни, чтобы лишь десять лет спустя осознать, что под одними и теми же словами подразумевали разное. Но к тому времени солнце русского символизма давно уже минует зенит.
Пока же символистская поэзия (воспринятая вперемешку с более или менее наивным бытовым «декадентством») завоевывает все новых поклонников среди российского юношества. Положение таких местных «декадентов» было разным: Гумилёв и Ахматова чувствовали себя одиноко в чиновничье-пенсионерском Царском Селе, над косоглазым «Гумми» сверстники даже в открытую смеялись. Ходасевичу повезло больше: в Третьей московской гимназии он был отнюдь не единственным «декадентом». Более того, обстоятельства очень рано позволили ему соприкоснуться с самим центром нового эстетического движения.