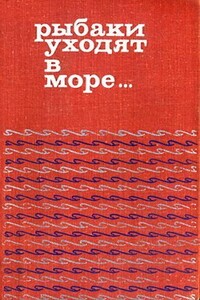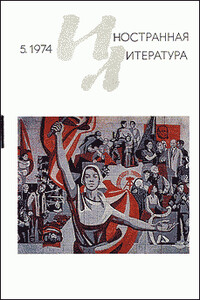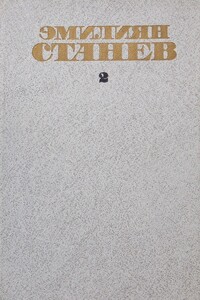Alabama Song | страница 48
Льюис так тщеславен, так горд собой. Завел манеру презрительно окидывать меня взглядом, посасывая кубинскую сигару, а потом поворачиваться к Скотту и произносить с обманчиво удрученной, хищной улыбкой:
— Бедняга Фиц, ты действительно женился на полной дуре, да к тому же сумасшедшей шлюхе.
И мой бравый Фиц, краснея, как юнец во время первого причастия, пьет из чаши и проглатывает унизительные слова, будто вовсе не он Скотт Фицджеральд, величайший писатель нашего поколения, а совсем наоборот, — этот О’Тупица, как называет его Лулу (и в такие моменты я всегда веселюсь от души), весьма слабенький стилист и самый отвратительный американский писатель всех времен. Скотт воображает, что нужен Льюису с его замашками спортсмена и патриотическими заявлениями, якобы демонстрирующими его мужские порывы и беспокойство художника, тогда как на самом деле этот тип — обыкновенный жиртрест, высасыватель новелл, утоляющих его гений, высасыватель крови избранного, которой ему самому не хватает и которую он попытается влить в свои последующие романы, сам при этом совершенно не разбираясь ни в мужчинах, ни в женщинах. Чтобы понимать, нужно любить. Льюис-тупица любит только себя самого, но этого мало, круг слишком быстро замыкается…
— Хитрый простофиля, — говорит о Льюисе-герое Лулу; она повидала стольких сказочников, что пьянеет от их вранья.
Я замечаю Лулу, что у нее самый красивый платок на свете.
— Эта красота — от Скиапарелли, — поясняет она. — Дама света — ладно, полусвета — забыла его на банкетке, и Гастон, охранник, спустился сюда, чтобы отдать его мне. — Лулу развязывает узел, чтобы показать мне платок целиком, и я улыбаюсь; под дорогой шелковой тканью прячутся ее волосы. Лулу щупает бигуди, чтобы убедиться, что волосы высохли, потом не торопясь снимает их, расчесывая волосы. Ее коротко подстриженные ногти выкрашены лаком цвета старой бронзы, совсем как монетки, падающие к ней в блюдце.
Любовь закричала в ужасе, увидев мою воспалившуюся ногу.
— Да вы просто сошли с ума, как можно довести себя до такого состояния!
Мы берем такси и едем в клинику Ларибуазьер, где хирург разрезает нарыв, а потом шепчет мне:
— Дитя мое… — Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая его тон, очень похожий на тон Судьи, чьи сухие отцовские руки никогда не обнимали и не ласкали меня! Тот хирург был краснокожий, — отталкивающего вида людоед, если уж быть правдивой; он хотел убедить меня, что, почти как отец, желает мне добра. — Дитя мое, — заявил он, — можете считать себя счастливой, если нам не придется ампутировать ногу. В ране завелась дрянь, именуемая золотистым стафилококком.