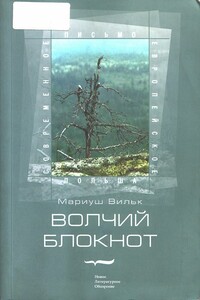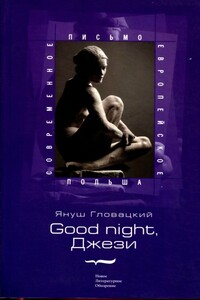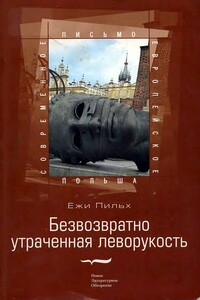Любиево | страница 26
В пять утра в парке начинается паника. Вот-вот рассветет, и все эти призрачные мужчины обратно превратятся в деревья, таблички, запрещающие въезд, в камни и памятники. Обман раскрыт, король голый, в зарослях всю ночь что-то шевелилось, и только теперь стало видно, что. Около дыры в заборе стоял не телок, а выброшенный старый пылесос с длинной трубкой, и это он так реалистично прикидывался болоньевой курткой и коротко стриженной головой, крепко сидящей на толстой шее! Лишь немного погодя парк заполнится людьми. Ими, к сожалению, окажутся не пьяные чмо, жаждущие лишь одного, а дневные прохожие, срезающие дорогу на работу, няньки с детьми, и эти люди будут на нас смотреть откуда-то извне. От них будет пахнуть обувным кремом и зубной пастой, а в сумке у них будет свежая газета. И вообще: отвратительно трезвая свежесть будет разливаться по мере прояснения неба — этих раскоряченных ног небосвода с зависшими на нем птичками. Бррр. Надо бежать, чтобы не видеть всей этой профанации. Бежать от людей, чтобы не смотреть им в лицо. Идти спать.
Лукреция плачет, прячет в сервант памятные вещицы в полиэтиленовых пакетах, тщательно закрывает дверцу. Но сначала дает нюхнуть каждому, сделать по одному вдоху. Я тоже вдохнул разок. И поначалу ничего такого не почувствовал. Потом до меня дошел запашок вроде как тюрьмы, пота, лизола. Видать, попалась какая-то полувыветрившаяся портянка! Сейчас на столе остались только фотки. Смотрят на меня эти лица, в основном двадцатилетних подростков, еще не в форме. Снимки, сделанные где-то над Доном, в фотоателье далекого СССР. Патриция берет один из них, протирает рукавом и рассматривает, словно видит впервые в жизни:
— Этот наверняка уже вернулся на свой Кавказ, Саша мой любимый. А вот Ваня. Иногда ночью, когда не спится, беру карту и смотрю, где теперь мой Саша, где мой Ваня, где Дмитрий? Ничего нам не оставили, даже казармы отдали университету. Ничего, ни парка, ни казарм, ну ничего. Вы все хотели этих перемен, эту новую систему, а мы с Лукрецией молились, чтобы у вас ничего не получилось. Все идет к худшему. Солдатика в поезде снять в коммунистические времена — булка с маслом… Мало того что все эти Сашки и Ромки были прямо из деревни, так еще не было в армии девчат, пропусков… Я, как только услышала о «гуманизации в армии», сразу поняла, что плохие настали для теток времена. Потому что теперь у каждого новобранца практически неограниченный доступ к пизде. — Лукреция плачет.