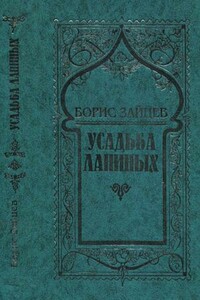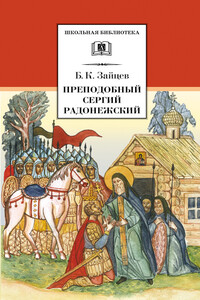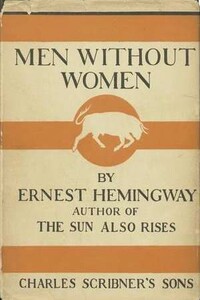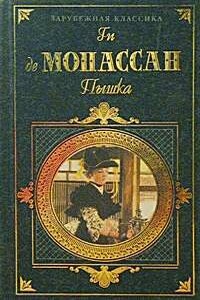Рассказы | страница 30
— Но, любезные, не плошай!
У Гаврилы кони здоровей — Старый Молодой и Рыжка; вон он как прет, за ним не ускородишься, из-под зубьев дым коромыслом.
— Эй, ты, тетеха, заснешь еще!
Но карий его глаз ласков, сразу Глашка узнает в нем свое, милое, неотразимое, отчего замлевает по ночам ее девичье сердце.
— Пры-ыткий, леший!
Но уже его и нет: волна мужественности, жути и радости проплыла, снова они расходятся в разные стороны, — она к дубам, он к дороге, взрывая за собой бархатные пелены. Так они ходят взад-вперед часами, кружат, тянут один за Другим, вздирая непокорную землю, чтобы легче и теплей было расти в ней семенам. И когда Гаврилина борозда заворачивает, Глашкины лошади сами знают — им тоже заворачивать, и самое Глашку несет вперед, все вперед к нему та же сладкая волна: как легок, пахуч чернозем под упругой ногой! Теплый день выдался, слабо-солнечный, тихий, с глубоким вольным духом; усадьба там где-то за рощей, никого не видать вокруг — можно и приостановиться на минутку. Да и лошади так ловко стали — закрывают своими мягкими тушами.
— Гы-ы!
Солнце, внутренняя прелесть распустила их рожи в улыбку, молодой жар захватил, а Гаврилины глаза близко-близко, весь он тут, сильный, молодой ярила.
— А, попалась птица!
Где же тут уйти, да и куда уйдешь от дорогих темных губ, — только замрешь вся, бормочешь, а он целует, целует, и лошади смирно стоят — ждут, пофыркивают, да пахнет земля, солнце теплеет из-за облачков.
— Измял всю, идол, насилу вырвалась!
Но глаза пьяно блистают, и легкой рысью гонит Глашка лошадей, она побежала б, помчалась с ними в светлом скоку, да тяжко беднягам с боронами, да и полдни скоро, надо в усадьбу. Вон как солнышко уже высоко.
И в усадьбе, пока выпрягают лошадей, зубоскалят с работниками, обедаю. т в людской — все то же сияющее сливает их вместе, и хоть Гаврила ушел в барский дом за рюмкой водки, все же он тут, совсем близко — куда он может деться? Пусть они там смеются: «Глашка заневестилась» — мало ли чего брешут, ей не до того. Вот вышла из избы, и солнышко тепло обдало всю до последней косточки, — даже сладкая дрожь прошла, и вдруг стало ужасно важно, точно вся полна чего-то самого большого, — двинулась медленно, чтобы не расплескать. Выезжать еще не скоро, можно прилечь вон там, под ракитой, отдохнуть с поденщицами. Гомон, хохот. Пляшут, веселятся, — но она устала, сладкая жмурь пробегает по телу, хочется улыбнуться — милому дню, Гавриле, девкам, — и знаешь, что сейчас утонешь в пылающем, темном сне. А Гаврила бегает, хлопочет: огромный, молодой, он похож в свои двадцать лет на ивовый побег — несуразный и длинный, еще зелено-сочный. Вдруг не туда пошлют скородить? Глашка разлеглась, толстая, знать ничего не знает, а если с ней пошлют Митрофана? Петушок маленький да бойкий — Гавриле тогда прямо зарез. Лысый Иннихов, управляющий, смотрит на него строго: