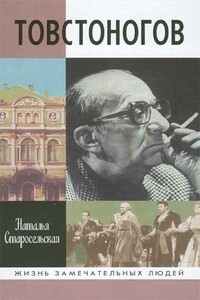Виктор Авилов | страница 54
И когда Ланцелот надевал на голову Мальчика свою широкополую шляпу, это воспринималось как передача эстафеты Добра — действенного, отчетливого, а не расплывчатого. И была в этом жесте, как писала Наталья Кайдалова, «какая-то всеохватность нашей великой, грустной и, как думалось тогда, непобедимой культуры… Было впечатление, что героя окружает светлый, радужный ореол. Ведь это еще был только 1981 год, а в его устах монолог о любви и сострадании к людям звучал как евангельская проповедь…».
Виктор Авилов и сам относился к этой роли как к совершенно особенной. В одном из интервью он говорил: «Я воспринимаю приход Ланцелота как приход Мессии». Не больше и не меньше. Именно так воспринимал он рыцаря Ланцелота, а потому и манера его игры в «Драконе» была несколько иной — мягче, спокойнее, увереннее, чем обычно. Ведь Авилов отдавал себе отчет, что играет не просто «абсолютно положительного героя», а знаковую фигуру, в каком-то смысле ту самую «богоравную субстанцию», о которой он впоследствии скажет вполне определенно, рассуждая о своем Воланде из «Мастера и Маргариты».
Он пропустил роль Ланцелота через себя, через собственную человеческую природу и именно тогда, кажется, пришел к пониманию того высокого назначения театра, что сегодня утрачено, практически, начисто — нести со сцены свет, не позволять зрителям покидать театр в мрачных раздумьях, не отпускать их в непроглядную ночь, потому что, какими бы ни были они, многим еще предстоит убить в себе дракона, а потому надо быть терпеливым и помнить о том, что они «заслуживают тщательного ухода»…
Вообще, предметом дискуссионным является мнение о том, насколько влияет на артиста сыгранная им роль. Кто-то говорит о несомненном влиянии, кто-то это влияние опровергает, но Виктор Авилов принадлежал к разряду тех, кого роль невероятно обогащала по-человечески, личностно. Это, к слову сказать, тоже одна из характернейших черт того поколения, к которому Авилов принадлежал, — мы накапливали опыт, скорее, не из жизни, а из прочитанных книг, увиденных фильмов и спектаклей, умея проживать их как собственную реальность. Жизнь давала слишком мало, постоянно прячась за громкие слова, фальшивые лозунги, неприглядные поступки, а для того, чтобы различить за всем этим бряцанием и громом истинное, живое, — надо было все-таки обладать не только скудно развитым умом, который у нас был, а интеллектом, которого, увы, не было, и интуицией, которой тоже нужна была отсутствующая пища.