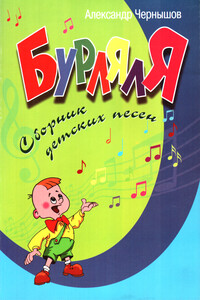Конец времени композиторов | страница 52
Очевидно, может показаться некорректным тот факт, что термин, обозначающий «генеральный художественный принцип эпохи Возрождения», будет применяться при описании системы богослужебного пения VI–IX вв., однако есть несколько причин, позволяющих допустить такую некорректность. Во-первых, в данной работе уже имелись случаи расширительного и нетривиального применения терминов, примером чему может служить термин «произвол», заимствованный из русских певческих рукописей XVI в. и применяемый к западноевропейской композиторской ситуации. Во-вторых, предполагается, что такое нетривиальное применение терминов способно расширить представления об изучаемом предмете, а так же вскрыть внутренние, не замечаемые ранее черты сходства там, где сходство не предполагалось. В этой связи интересно отметить, что формульное мышление присуще как композиторским методикам XV в., так и системе богослужебного пения VI—IX вв. в гораздо большей степени, чем это представляется сейчас. Об этом свидетельствует тот факт, что, излагая теорию восьми григорианских тонов, Тинкторис в XV в. представляет их не в виде привычных нам звукорядов, но в виде определенного набора формул, впрочем, об этом будет сказано позже. Наконец, в-третьих, varietas можно понимать как универсальный принцип, сопутствующий формульному мышлению, и в таком виде он вполне приложим к функционированию формул-моделей в контексте системы богослужебного пения VI—IX вв.
Наиболее наглядно действие принципа varietas можно продемонстрировать на примере Антифонария, где весь мелодический материал можно рассматривать как последовательность уподоблений или варьированных повторений изначальных формул-моделей, роль которых выполняют ноэаны, мнемонические текстовые формулы и невмы. Эти формулы-модели образуют собой некую иерархическую систему моделей-подобий, основой которой являются наиболее архаичные и простые ноэаны. Латинские мнемоники и невмы могут быть рассмотрены как более развитые и подробные подобия ноэаны, которая в данном контексте может пониматься как некая прамодель. По этому поводу в своем труде «Раннехристианское пение в Западной Европе VIII—X столетий» Н.И.Ефимова замечает следующее. Характерный интонационный контур ноэан в латинских мнемониках сохранился неизменным, хоть и растворился в их более развитой мелодике. Стало быть, можно утверждать, что по своей функциональной роли в системе Октоиха обе представленные группы моделей были равнозначными. В средневековой системе ладотонального регулирования они служили материализированной моделью лада. Более того, «утонченный» мелодический образ текстовых мнемонических моделей стал намного совершеннее своих предшественниц, поскольку дополнился необходимыми интонациями, которые внесли конкретность в звуковой объем лада и условия его оформления. «“Невмы” представляли пространные мелодические построения, дополняющие модель “Noeane” или “Primum querite reguum Dei” и в некотором смысле “расшифровывающие” последние. В них более подробно, нежели в односложных Формулах, были представлены мелодические фигуры, окаймляющие тенор (особенно в автентических ладах) и финалис (в плагальных ладах). И если мелодика “ноэан” воспринималась как каталогизирующая репертуар модель Октоиха, как центральный элемент формульной системы дописьменного этапа, то “невмы”, в силу своей развитости, скорее напоминали абстракт мелодической линии хорала, реализующей в себе интонационные возможности мнемонических схем Октоиха»