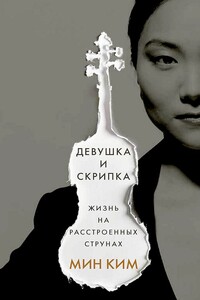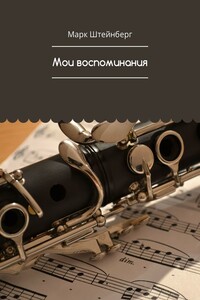Конец времени композиторов | страница 2
«Говоря, правда, о бессмертных творениях искусства, и об искусстве говорят как о вечной ценности. Так говорят на языке, который во всем существенном не очень беспокоится о точности, опасаясь того, что заботиться о точности значит думать. А есть ли теперь страх больший, нежели страх перед мыслью? Так есть ли смысл, и есть ли внутреннее содержание во всех этих речах о бессмертных творениях искусства и о вечной ценности искусства? Или же это только недодумываемые до конца обороты речи, тогда как все большое искусство вместе со всею своею сущностью отпрянуло и уклонилось в сторону от людей?
В самом всеобъемлющем, какое только есть на Западе, размышлении о сущности искусства, продуманном на основании метафизики, в “Лекциях по эстетике” Гегеля говорится так:
“Для нас искусство уже перестало быть наивысшим способом, в каком истина обретает свое существование”. “Конечно, можно надеяться, что искусство всегда будет подниматься и совершенствоваться, но форма его уже перестала быть наивысшей потребностью духа”. “Во всех этих отношениях искусство со стороны величайшего своего предназначения остается для нас чем-то пройденным”.
Нельзя уклониться от приговора, выносимого Гегелем в этих суждениях, указанием на то, что с тех пор, как зимою 1828–1829 гг. он в последний раз читал свои лекции по эстетике в Берлинском университете, мы могли наблюдать возникновение многих новых художественных творений и художественных направлений. Такой возможности Гегель никогда не отрицал. Но вопрос остается: по-прежнему ли искусство продолжает быть существенным, необходимым способом совершения истины, решающим для нашего исторического здесь-бытия, или же искусство перестало быть таким способом? Если оно перестало им быть, то встает вопрос, почему. О гегелевском приговоре еще не вынесено решения; ведь за ним стоит все западное мышление, начиная с греков, а это мышление соответствует некоторой уже совершившейся истине сущего. Решение о гегелевском приговоре будет вынесено, если только оно будет вынесено, на основе истины сущего, и это будет решение об истине сущего. До тех пор гегелевский приговор остается в силе. Но поэтому необходимо спросить, окончательна ли истина этого приговора и что, если так»>1.
Настоящее исследование не претендует на окончательное решение по поводу гегелевского приговора, его задачей является лишь предоставление некоторого конкретного материала, способного в какой-то степени приблизить время этого решения. Однако здесь все же неизбежно возникает и иной поворот проблемы. Ведь конец времени композиторов совершенно не обязательно должен означать конец времени музыки вообще, ибо феномен композитора и композиторства очевидно не покрывает всего того, что подразумевается под музыкой. В таком случае конец времени композиторов можно рассматривать как начало высвобождения возможностей, изначально таящихся в музыке, но подавляемых композиторством во время господства композиторов над музыкой. Размышления, осуществляемые в этом направлении, могут заронить сомнение в законности самого гегелевского приговора, хотя за ним и «стоит все западное мышление, начиная с греков», и соответствующее «некоторой уже совершившейся истине сущего». Ведь то, что «для нас искусство уже перестало быть наивысшим способом, в каком истина обретает свое существование», может являться всего лишь симптомом исчерпания возможностей того способа совершения истины, который породил все западное мышление, начиная с греков, и дал законную силу гегелевскому приговору. Способ совершения истины не может быть больше самой истины — вот почему исчерпание возможностей определенного способа совершения истины можно рассматривать как начало проявления тех сторон истины, которые были скрыты некогда господствующим, но теперь уже исчерпанным способом совершения истины. С точки зрения этих новых сторон раскрывающейся истины гегелевский приговор может пониматься всего лишь как дань уважения определенной парадигме мышления, принимаемой нами на каком-то этапе за истину в последней инстанции.