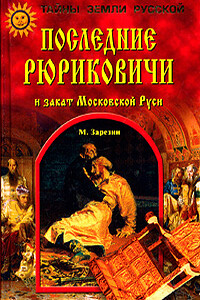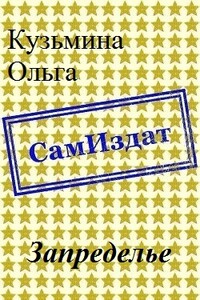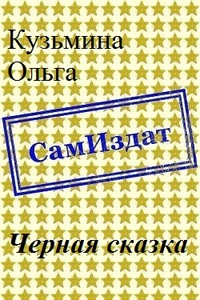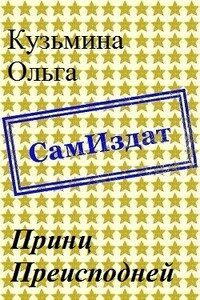Республика Святой Софии | страница 44
Покровители пчел — святые Новгородской земли Зосима и Савватий жили и были канонизированы в XV в. Столь важное и доходное дело, как бортничество, не могло долго остаться без христианского покровителя. Видимо, до XV в. бортники на Руси поклонялись какому-то языческому богу, а к концу XV в. это божество «сменили» православные святые.
Любопытно, что с именем святого Зосимы связана еще одна легенда. В 40 верстах от села Белого, на реке Мете, в Боровичском уезде Новгородской губернии, есть камень, почитающийся местными жителями священным. На нем якобы оставил след своей ноги святой Зосима, отдыхавший здесь на пути в Новгород, куда он шел для исходатайствования у веча владельческой записи на свой пустынный остров. Почитание камней-следовиков — наглядный пример религиозного народного творчества.
К концу XV в. относится и икона «Чудо о Флоре и Лавре», на которой эти святые изображены в окружении табуна лошадей. Показательно, что впоследствии православная церковь запрещала изображать святых Флора и Лавра с лошадьми и конюхами. Следовательно, представление об этих святых как о покровителях лошадей сложилось в XIV–XV вв. Впрочем, в Новгородской епархии почитание Флора и Лавра как святых покровителей домашнего скота было узаконено. В «Чиновнике Новгородского Софийского собора», составленном в XVII в., но отражающем реалии церковной жизни более раннего времени, читаем, что 18 августа, в праздник Флора и Лавра («Флоров день») соборные священники с дьяконами «на скотинных дворах, на мельнице и на Красном селе поют молебны и кропят святою водою дворы и во дворех скоты и служебников»[176].
Кардинал д’Эли в начале XV в. писал в Рим: «Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было сказать, что преобладало в образовавшейся смеси: христианство ли, принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение»[177].
Основная обрядность крестьян-земледельцев была направлена на то, чтобы воздействовать на силы неба, земли и воды с целью обеспечения урожая. Солнце не изменило своего пути по небу с принятием христианства, и весна по-прежнему следовала за зимой. Календарная обрядность вобрала в себя христианские мотивы, но по своей сути осталась природно-языческой. К тому же принципиальных отличий новой религии от старой не было. В христианстве, как и в язычестве, одинаково признавался единый создатель Вселенной, и там и здесь существовали невидимые силы низших разрядов; и там и здесь производились моления — богослужения и магические обряды с заклинаниями-молитвами. Каркасом годичного цикла празднеств и в христианстве и в язычестве были солнечные фазы; там и здесь существовало понятие «души» и ее бессмертия, ее существования в загробном мире. Поэтому перемена веры расценивалась внутренне не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и замена имен божеств. Вспомним, что первое время после принятия христианства на Руси восставали не против новой религии, а против ее носителей — присланных из Византии священников, которые не разбирались в местных обычаях и действовали порой как «слоны в посудной лавке».