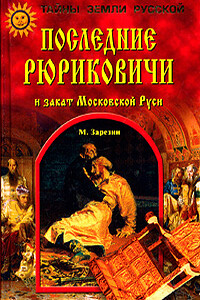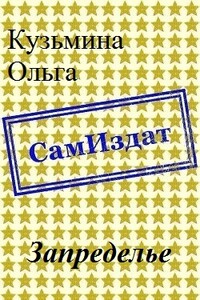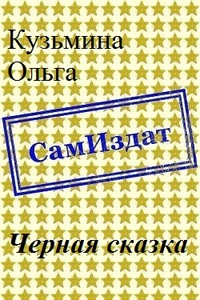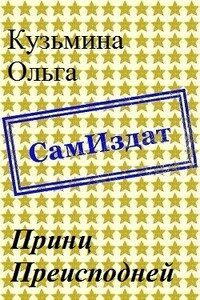Республика Святой Софии | страница 39
Таким образом, церкви, за неимением в западных городах русских купеческих подворий, являлись в какой-то мере объединяющими центрами русского купечества. Существовала даже специальная печать церкви Святого Георгия в Дерпте, имеющая на лицевой стороне надпись «Печать юрьевская», а на оборотной — «Печать святого Георгия»[158]. Несомненно, что юрьевская печать святого Георгия применялась в сфере церковных дел: ею скреплялись различные акты церковного характера. Но в то же время печать могла использоваться и в сфере гражданских дел — для удостоверения различных актов, связанных с пребыванием и деятельностью русских купцов в Дерпте.
Но при всем практичном отношении к церковным строениям церковь все же воспринималась средневековыми людьми как дом Бога и святых. Сама ее постройка являлась сакральным действом. Так, создание церкви-однодневки «всем миром» считалось действенным способом прекратить мор: «Бысть мор силен велми в Новегороде… по грехом нашим, велие множество крестиян умре по всим улицам… Тогда же поставиша церковь святого Афанасиа в един день, и свяща ю архиепископ новгородчкыи владыка Иоан с игумены и с попы и с крилосом святыя Софея; Божьею же милостью и святыя Софея, стоянием и владычним благословением и преста мор»[159].
В рамках средневековых представлений о собственности новгородские бояре относились к церквям и монастырям, в которые вложили деньги, и соответственно к их земельным владениям, как к части своего собственного недвижимого имущества. Соответственно, «чужие» монастыри и церковные владения бояре рассматривали как земли и дворы своих соседей, поэтому при случае без зазрения совести грабили или захватывали их, особенно если монастырская или церковная земля оставалась без влиятельного покровителя. Именно для предотвращения такого грабежа в новгородских актах появляются заключительные запретительно-заклинательные клаузулы. В. Ф. Андреев, проанализировав все новгородские частные акты, пишет: «Санкция в новгородских актах конца XIV–XV в. обычно выступает в виде следующей формулы: „А кто сие рукописание (грамоту) переступит, сужуся с ним перед богом (в день страшного суда)“ и встречается в большинстве духовных