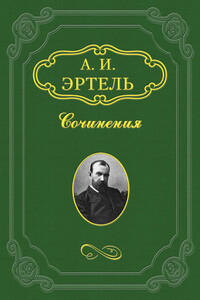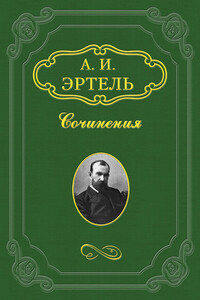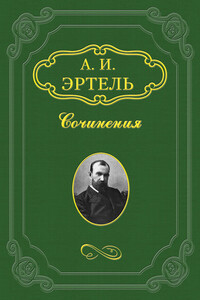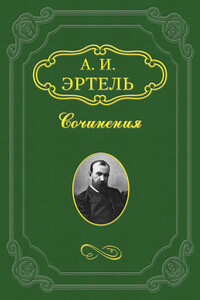Серафим Ежиков | страница 20
он чрезвычайно смешно и пылко вознегодовал на последние строфы пьесы и упорно доказывал, что выражение поэта:
не свойственно народу русскому. «Это место пьесы, – толковал он, прямо переносит меня куда-нибудь на берег Немецкого моря или в Норвегию какую… Как выговоришь „где же кружка?“, сейчас тебе пиво мерещится, а за пивом колбаса или ячменная лепешка…»
Иностранную литературу он понимал и ценил, но как-то холодно, и только к Шекспиру да Гетеву «Гецу»>{14} питал большую склонность. Байрона ненавидел, не любил Гюго да и вообще французов, помимо Беранже>{15}, но высоко ставил Ауэрбаха>{16} и Брет-Гарта>{17}. Особенно ауэрбаховские деревенские рассказы да первую половину романа «На высоте» любил он. Мне кажется, то свежее и здоровое миросозерцание, которое разлито и в лучших вещах Ауэрбаха и в рассказах Брет-Гарта, особенно привлекало Ежикова. Вероятно, по этой же причине восхищался он скучнейшим романом Шпильгагена>{18} «Немецкие пионеры». Самая натура, как мне казалось, тянула его к свету и здоровью; все больное в мысли и даже все мрачное, все пессимистическое просто как бы пугало его, и он с каким-то ужасом от всего этого отмахивался руками. Вследствие этой-то врожденной склонности своей о многих произведениях литературы он не мог говорить равнодушно, а говорил с искреннею злобой и даже дрожанием в голосе. Такое негодование возбуждали, например, в нем произведения Достоевского. «Он, злодей, жилы из себя тянет, – говорил про него Ежиков, с медленным наслаждением наматывает их на руку да и разглядывает в микроскоп… Извольте-ка сопутствовать ему в этой работе!» Без нервной дрожи не читал он и байроновской «Тьмы»>{19}, а Эдгара Поэ>{20} так просто проклинал.
По философии взгляды его были не особенно определенны. Несомненно, впрочем, то, что он не совсем сочувствовал позитивистам>{21}; мне даже казалось иногда, что он не прочь и от Гартмана>{22}, но во всяком случае, без гартмановских мрачных выводов. Впрочем, вернее сказать, что по части философии в нем была-таки путаница. Мне думается даже, что и воззрения деревни не остались без воздействия на его философское мировоззрение. Недаром известное переложение Пушкиным молитвы великопостной («Отцы-пустынники и жены непорочны») вызывало в нем какое-то, пожалуй даже и наивное, восхищение, и я уверен, не одно только эстетическое наслаждение заставляло проникаться его голос умилительной теплотою, когда он декламировал: