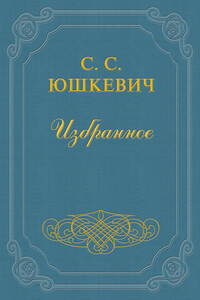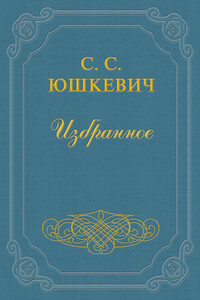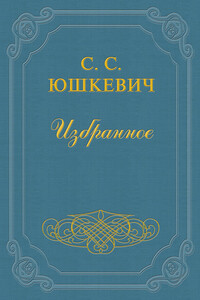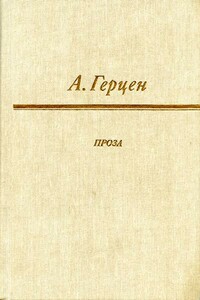Вышла из круга | страница 31
Она испугалась этой мысли и, чтобы перестать думать, поцеловала его.
«Ведь я так же легко могла поцеловать и Глинского, – пришло ей на ум, – и нисколько бы оттого не изменилась. Как ужасно все, что я теперь думаю», – с отчаянием сказала она себе.
И снова потянулись мысли… о вечности, о мирах, о том, что Бога нет, и не понимала, почему, если ей все можно, она совершила дурное, а не хорошее.
Она долго еще мучилась, но, наконец, не выдержала, осторожно встала, выпила брому и начала ходить по комнате. Сердце у нее часто билось и казалось, что в комнате нет воздуха. Подойдя к окну, она приоткрыла и выглянула на улицу. Промелькнул силуэт прохожего.
«Вот, если бы так, вдруг умереть, – пронеслось у нее, – и наступил бы конец всему-всему».
Она закрыла ставень и снова начала ходить. Опять почувствовалось, будто из комнаты выкачали весь воздух. Но она уже не страдала от этого, а радовалась… Руки ее поднялись к шее, словно она хотела задушить себя, но не за грех, – она теперь не считала того, что произошло с ней, грехом, – а за другое… Ведь, что бы она ни сделала, ей уже никогда не уйти, не заполнить бездны, которую она увидела, поняла…
Через неделю явился Глинский, но Елена его не приняла, сказавшись больной. Прошла еще неделя, он опять пришел, – Елена и во второй раз его не приняла. Спрятавшись за дверью в гостиной, она слушала, как он задавал вопросы горничной, и голос его почему-то волновал ее. Она едва удержалась, чтобы не выйти и сказать:
– А я ведь дома и совершенно здорова. Как я рада, что вы пришли.
«Я – сумасшедшая, испорченная, дурная, – думала она. – Я ведь его презираю и знаю, что буду мучиться, когда останусь с ним с глазу на глаз. Чего же я хочу?»
…Уже был май, уже пышно расцвели деревья, усаженные рядами, вдоль домов, как вдруг, неожиданно, заболел Иван.
И вот Елена, еще вчера не находившая себе места от тоски и недоумения, сразу забыла обо всем, что ее угнетало.
В один миг перестали существовать и непонятное и греховное, рождавшие страдание мысли и совести, уничтожилась ее связь с бесконечным, с миллионами верст, с вечностью, и затерся, заглох в душе образ Глинского.
«Если я считаю жизнь ничтожным, пустым даром, человечество только огромным муравейником, и потому мне все можно, то почему, вместо того чтобы позволить Глинскому обнимать себя, я не убила детей своих, не отравила городского источника, или не сделала попытки поджечь город, чтобы преступление хоть как-нибудь отвечало моему пониманию».