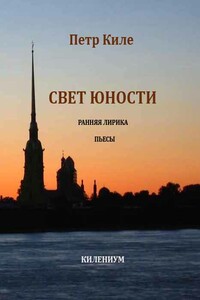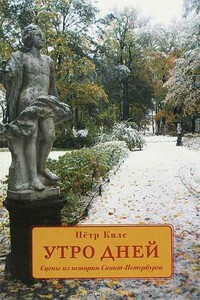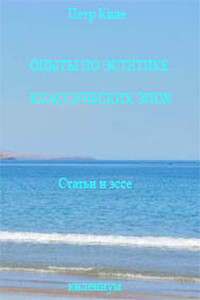Ренессанс в России | страница 60
Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людскостью… Он знал, что у всех народов, и древних, и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному”. Далее поэт говорит, что греки восхищались и Гомером, и “пламенной Сафо”, и “мудрецом Феосским”, то есть Анакреонтом, как “важные римляне” — не только Вергилием и Горацием, но и “эротической музой Катулла, Тибулла и Проперция.
“По возрождении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великолепного наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, странной, но исполненной воображения”.
Это не просто исторический обзор; Батюшков несомненно видит сходные условия в развитии итальянского языка “при возрождении муз” и русского языка в эпоху преобразований и ставит перед собой те же задачи достижения совершенства, как Петрарка. Могла ли у него промелькнуть мысль о Ренессансе в России?
Вознося Ломоносова за его труды и лирику (для Батюшкова Ломоносов не просто поэт, а лирик), он высоко ставит Державина: “У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением, — Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским”.
Отдавая должное стихотворной повести Богдановича, “первому и прелестному цветку легкой поэзии на языке нашем”, сказкам Дмитриева, басням Хемницера и Крылова, стихам Карамзина и балладам Жуковского, “сияющим воображением”, Батюшков особо упоминает Муравьева, недавно умершего, “как человека государственного, как попечителя Университета”, которому он обязан своим образованием, и добавляет с сожалением: “И этот человек столь рано похищен смертию с поприща наук и добродетели! И он не был свидетелем великих подвигов боготворимого им монарха и славы народной! Он не будет свидетелем новых успехов словесности в счастливейшие времена для наук и просвещения: ибо никогда, ни в какое время обстоятельства не были им столько благоприятны”.
Эти слова не только о победе над Наполеоном, что Батюшков связывает с Александром I, разделяя упования многих, это об эпохе в самом деле удивительной, — Россия, как некогда Греция, в особенности Аттика, сожженная персами, героически отстояла свободу перед полчищами варваров (недаром французы предстают в его глазах как “народ варваров”), возродилась для славы непреходящей, — и поэт мог подумать: не вступает ли она в столь же знаменательную эпоху, с возрождением наук и искусств?