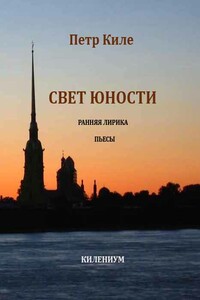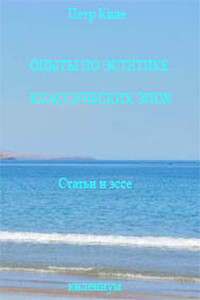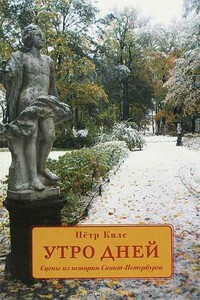Ренессанс в России | страница 35
Екатерина, в спешке укрепляя свою власть, не заметила, что вольности и свободы одного сословия ущемляют права других сословий, прежде всего купечества, не говоря о крестьянстве, основной массы населения Российской империи, нарушает принципы, заложенные в “Табели о рангах” Петра Великого, в которой нашли оформление идеи просветителей еще до просветителей. Манифест, хотела Екатерина этого или нет, был направлен против программы преобразований Петра I, он закреплял права боярства на уровне помещика, который оказался не просто землевладельцем, каковым мог стать и купец, но владельцем душ, как средневековый сюзерен, боярин.
Вступив в переписку с Вольтером, с Дидро, играя роль просвещенной монархини, Екатерина II между тем воссоздала феодальную систему землевладения с полным закрепощением крестьян. И, похоже, не отдавала отчета в том.
Вольтеру она писала: “Впрочем, в России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который бы, когда ему ни вздумалось, не ел курицы, а в иных Провинциях с некоторого времени стали предпочитать курицам индеек”.
Говорят, что Екатерина не гнушалась грубым обманом. А Пушкин назвал ее “Тартюфом в юбке и короне”. Между тем это же просто-напросто сочинительство, полет фантазии, игра ума в тиши роскошных интерьеров Зимнего дворца или Большого Царскосельского, это видно по стилю, но ведь и адресаты императрицы в переписке с нею занимались не исповедью, а сочинительством. Разница лишь в том, что Вольтер усмехался, просматривая письма русской царицы, как, отрицая существование Бога, утверждал его обманное бытие для неких практических выгод, а Екатерина II поверила в свои столь удачно сочиненные слова, поскольку в них заключалась слава ее царствования.
Спустя много лет, читая книгу Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву”, она не воздержалась от замечания: “На 147 стр. едит оплакивать плачевную судьбу крестьянского сословия, хотя и то неоспоримо, что лутчее судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной”.
Екатерина II воспользовалась еще одним указом Петра III — о секуляризации населенных церковных земель, правда, поначалу, взошедши на престол, отменив его, а через два года подтвердив, отнюдь не для облегчения участи монастырских крестьян, а для пожалований тем же новоявленным дворянам и фаворитам.
Эти земли и крестьяне, закрепленные на ней без всяких человеческих прав, даже жалобы на владельца, предназначенные для укрепления абсолютизма, оказались западней как для власти, так и для громадного большинства населения России. Воссозданная феодальная система хозяйствования и крепостничества, вместо ориентации на свободную форму рыночных отношений, с ростом торговли и купечества, как было в Италии в эпоху Возрождения, явилась тормозом для развития производительных сил страны, хуже того, в условиях ренессансных явлений в культуре России, стала очагом феодальной реакции, которая началась с подавления крестьянских бунтов, переросших в Крестьянскую войну под предводительством Е.Пугачева, в причины которой напуганная ее размахом Екатерина не стала вдумываться. Между тем это была обратная сторона не только внутренней политики Екатерины II, но и внешней, которой занялась императрица, как перепиской с философами, с большим увлечением, это была дипломатия на общеевропейском уровне, при этом вполне в духе времени притворство, внешнее доброжелательство при строгом соблюдении собственных интересов почитали за искусство.