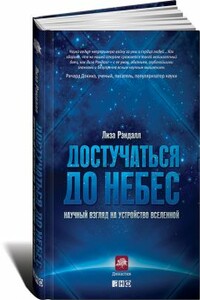Закрученные пассажи: Проникая в тайны скрытых размерностей пространства | страница 76
Если каждый капитан знает, сколько времени требуется на то, чтобы свет совершил один цикл, он может вычислить пройденный промежуток времени, умножая длительность одного цикла на число циклов, которые свет пробегает между зеркалами. Предположим, однако, что вместо того чтобы использовать свои собственные часы с неподвижными зеркалами, капитан стоящего на якоре корабля измеряет время по числу раз, которые свет на плывущем корабле отражается от зеркала на мачте и возвращается назад.
С точки зрения капитана на плывущем корабле, свет просто движется строго вверх — вниз. Однако, с точки зрения капитана стоящего на якоре корабля, свет должен пройти больший путь (чтобы пройти расстояние, пройденное движущимся кораблем, рис. 35). Однако, и в этом месте наши рассуждения противоречат интуиции, скорость света постоянна. Она одна и та же как для света, посланного к верхушке мачты стоящего на якоре корабля, так и для света, посланного к верхушке мачты движущегося корабля. Так как скорость равна пройденному расстоянию, деленному на время, за которое оно пройдено, а скорость света для движущегося и неподвижного кораблей одинакова, часы, связанные с движущимися зеркалами, должны «тикать» медленнее, чтобы компенсировать большее расстояние, которое должен пройти свет. Этот полностью противоречащий интуиции вывод, что движущиеся и неподвижные часы должны «тикать» с разными скоростями, вытекает из того факта, что скорость света в движущейся системе отсчета совпадает со скоростью света в неподвижной системе. И хотя предложенный способ измерения времени забавен, вывод о том, что движущиеся часы идут медленнее, будет верным независимо от того, как измеряется время. Если у капитанов есть часы, они будут наблюдать то же самое явление (с той оговоркой, что для обычных скоростей эффект будет ничтожно малым).
Хотя приведенный пример несколько искусственный, само описанное явление приводит к непосредственно наблюдаемым явлениям. Например, специальная теория относительности приводит к разным временам жизни быстро движущихся тел. Это явление называется замедлением времени.
Физики измеряют замедление времени, изучая элементарные частицы, рожденные на коллайдерах или в атмосфере, и движущиеся с релятивистскими скоростями, приближающимися к скорости света. Например, элементарная частица, называемая мюон, имеет тот же заряд, что и электрон, но тяжелее его и может распадаться (т. е. превращаться в другие, более легкие частицы). Время жизни мюона, т. е. промежуток времени до его распада, равно всего 2 мкс. Если движущийся мюон имел бы то же время жизни, что и неподвижный, он мог бы пролететь до распада всего около 600 м. Но мюоны ухитряются пролететь через всю нашу атмосферу, а в коллайдерах — до краев больших детекторов, так как благодаря их скорости, близкой к скорости света, нам они кажутся живущими намного дольше. В атмосфере мюоны пролетают расстояние, по крайней мере в десять раз большее, чем они пролетали бы в мире, основанном на ньютоновских принципах. Сам факт, что мы вообще наблюдаем мюоны, показывает, что замедление времени (и специальная теория относительности) приводит к правильным физическим явлениям.