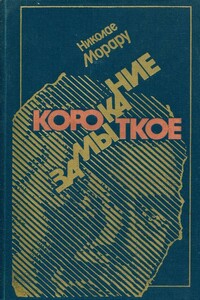Большой дом | страница 34
Я сопровождал ее тело в морг. Я был последним, кто ее видел. Я накрыл ее лицо простыней. И все думал: как же так? Как я это делаю? Нет, глядите, глядите на мою руку: вот пальцы зажимают край простыни, вот тянут вверх… Как у меня это получается? Я в последний раз вижу лицо, которое изучал всю жизнь. Вот и все. Я полез в карман за платком. И вынул вместо платка смятое письмо, которое сам же написал учительнице моего друга Авнера Сигала. Она преподавала у него в седьмом классе. Ни на секунду не задумавшись, я разгладил листок, аккуратно свернул и подсунул Еве под локоть. Уверен, она бы меня поняла. Потом ее опустили в землю. И тут у меня что-то подалось в коленях. Так подкашиваются ноги? Кто выкопал могилу? Мне вдруг понадобилось знать, кто это делал. Он же, наверно, целую ночь копал. Я еще когда приближался к этой яме, бездонной и жуткой, крутил в голове нелепую мысль: надо непременно найти могильщика и дать ему на чай.
В какой-то момент этого действа ты и приехал. Не знаю когда. Я обернулся, а ты стоишь там, в темном плаще. Ты постарел. Но вполне стройный, в тебе всегда пересиливали материнские гены. Ты стоял на кладбище, единственный оставшийся в живых хранитель этих генов, потому что Ури, сам знаешь, по всем статьям пошел в меня. Ты приехал, судья из Лондона, важная шишка, и протянул руку за лопатой: ждал своей очереди, чтобы кинуть ком земли. И знаешь, что в эту минуту мне захотелось сделать, сынок? Мне захотелось тебя ударить. Да-да, прямо там, дать тебе пощечину и послать подальше, искать другую лопату. И только ради твоей матери, которая терпеть не могла скандалов, я сдержался. Просто отдал тебе лопату. Один Бог знает, чего мне стоило сдержаться, но я стоял и смотрел, как ты наклонился, всадил лопату в кучу рыхлой земли и понес к могиле. Руки у тебя немного дрожали.
Потом все собрались в доме Ури. Детей отправили в подвал, к телевизору. Я сидел, смотрел вокруг, на сидящих за столом гостей, и вдруг понял: не могу больше тут находиться, ни минуты. Не знаю, от чего меня так воротило, может, достала их мутная скорбь, то ли напускная-притворная, то ли, наоборот, бездонная? Да кому из них дано понять мою потерю? Меня трясло от напыщенных соболезнований, от идиотизма правоверных, у которых на все божий промысел, от сочувствия старых подруг Евы и дочерей этих подруг — то по плечу погладят, то губки печально подожмут, — да сами эти лица чего стоят, как одинаково хмурятся, как неуклонно стареют, когда все дети выращены, когда пережита их служба в армии, когда осталось только пасти дряхлеющих мужей на сумеречном склоне жизни. Я молча отставил тарелку, которую кто-то наполнил для меня до самых краев, так что там ни кусочка больше бы не поместилось, но я до этой еды даже не дотронулся, я ужаснулся несоразмерности холмика с едой огромной горе моего горя и пошел в ванную. Запер дверь и уселся на толчок.