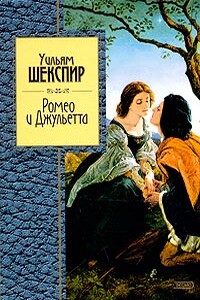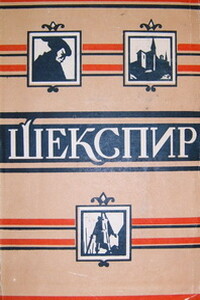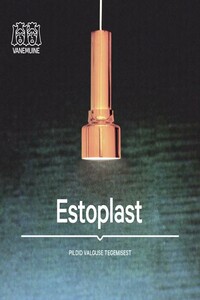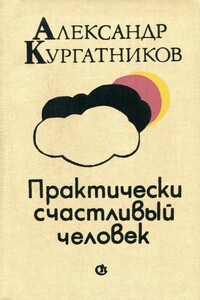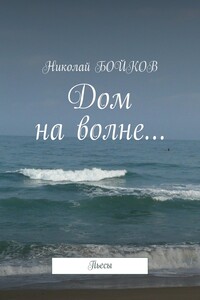Отелло | страница 56
Теперь же мы имеем совсем другую концепцию. Две или даже несколько противоречивых истин вызывают у человека чувство трагической расщепленности сознания, полной душевной растерянности. От раскрывшихся глубин мира и человеческой психики, от ощущения их бездонности человека охватывало головокружение; он испытывал настоятельную потребность в том, чтобы свести все это к единству, но сам, собственными силами не в состоянии был это сделать. Все недостоверно, все превращается в хаос. И тут является услужливый духовник, берущий растерявшегося человека за руку и выводящий его из лабиринта. Истин много, но все они условны и относительны. Настоящая же, абсолютная истина только одна — истина религиозная, по отношению к которой все остальные «истины» занимают служебное положение. Жизнь и все связанное с ней «есть сон» — не совершеннейшая иллюзия, но относительная, не полная реальность, которую можно и должно принимать ради практических надобностей, даже ради наслаждения, но которую надо всегда быть готовым отклонить, отодвинуть на задний план ради единственной «подлинной» истины религиозного откровения. Отсюда возникающее во второй половине XVI века знаменитое учение иезуитов о «двух истинах», нашедшее такое интересное полемическое отражение в шекспировском «Макбете» 20. Но подобную же доктрину можно найти и у протестантов — у некоторых представителей «метафизической» школы и особенно у доктора Брауна, учившего о существовании «высшей» религиозной истины, господствующей над истиной «низшей», земной. Все это не исключало струи гедонизма, но с отмеченным уже выше оттенком. На этой почве вырастает искусство «классического барокко», широко использующее все вышеописанные приемы этого стиля. Искусству этому чрезвычайно свойственны мистическая эротика, манящий ужас наслаждения, чувство «греховности» человека («Севильский озорник» Тирсо де Молины, лирика испанских мистиков, драмы ужасов и сладострастия Уэбстера и Форда и т. п.).
С другой стороны, у наиболее передовых мыслителей и художников эпохи эта новая точка зрения на мир и человека привела к углублению гуманистических идеалов, к возникновению трагического гуманизма. Его лучшие представители в искусстве — Шекспир второго периода и Сервантес, Рембрандт, в известном смысле Микельанджело, Леонардо да Винчи. Новый этап гуманизма — это осознание трагедии человека в частнособственническом и притом рефеодализирующемся обществе, разумение всей тяжести борьбы, которую человек ведет с этим обществом, — борьбы, не всегда сулящей успех и порой почти безнадежной, но все же всегда и во всех случаях необходимой. А вместе с тем — это осознание того, что ренессансное мировоззрение с его идиллическим оптимизмом и упрощенностью недостаточно вооружает для такой борьбы, что для нее нужен более сложный арсенал идей, чем заготовленный гуманизмом XIV-XV веков.