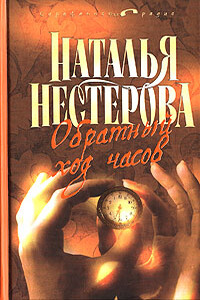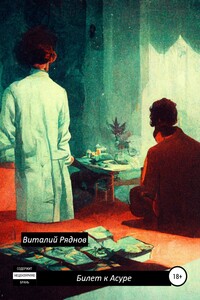Солнечное настроение | страница 84
Григорий Валерьевич вдруг шагнул к ней, взял за плечи, слегка встряхнул и, наклонившись близко, заглянул в лицо:
– Вам сколько лет?
– Девятнадцать… почти. – Ольга подняла лицо, увидела его близко и неожиданно для себя спросила: – А у вас глаза правда зеленые или это от освещения так кажется?
– Зеленые. – Как ей показалось, он тщательно скрывал гордость. – А что?
– Да нет, я просто… – Она хотела сказать, что зеленые глаза – это очень красиво, но сказала почему-то другое: – Я просто никогда не видела мужчин с зелеными глазами. Женщин видела, а мужчин – нет.
Он отпустил ее плечи, отступил на шаг, выпрямился и снисходительно бросил:
– Не много же вы в своей жизни видели.
И вышел.
Она хотела обидеться, но передумала. Это же на самом деле чистая правда – в своей жизни она видела очень и очень немного.
Потом он часто приходил в отделение. Не по вызову к больному, а просто так. Ходил вместе с ней по палатам, или сидел рядом в процедурной, или ждал в ординаторской, если она была в операционной. Все время что-то рассказывал – главным образом о своей жизни. По всему выходило, что жизнь у него была и вправду нелегкая. Ну и что же, что красавец, ну и что же, что душа любого общества, ну и что же, что бабы на шею вешаются… Все это не имеет значения, если человек так безнадежно одинок, если смысла в жизни не осталось, если предали все, кому верил и кого любил, если нет рядом родной души, возле которой можно отогреться, которая поможет и спасет, и – может быть, он слишком замечтался, но – сделает счастливым. У Ольги сердце разрывалось от сочувствия. Она ни о чем не могла думать, кроме как о том, чем ему помочь. И все время чувствовала себя виноватой – потому, что ничего толкового не придумывалось. Ну не советовать же обратиться к специалисту, правда? Это ему-то, самому известному психиатру в городе… А что она сама могла сделать? Если только поменьше внимания уделять больным в отделении? Потому, что Григорий как-то очень болезненно воспринимал ее манеру «нянчиться» с тяжелыми больными. Это он так говорил: «Эта твоя дикая манера – нянчиться с полутрупами… Зачем?» Она старалась скрывать от него, сколько «нерабочего» времени проводит в отделении. Чтобы он не считал, что она им пренебрегает. А бросить манеру нянчиться с полутрупами не могла. Объясняла, что это же ее работа. А про себя знала: это она сама. Уродилась такая, тут уж ничего не поделаешь. Кто-то рождается, чтобы музыку сочинять, кто-то – чтобы прохожих грабить, кто-то – чтобы дома строить, или в футбол играть, или магазином заведовать, или рыбу ловить, или самолеты испытывать… И если человек, рожденный для какого-то дела, с этим делом в жизни встречается, все у него получается очень хорошо. Она родилась, чтобы нянчиться с теми, кому нужна. И у нее это получается лучше, чем у других. Это все знают, и больные, и персонал, и даже эта Светлана Евсеевна с идеально людоедским характером – и та однажды сказала: «Надо этого безнадюжку Ольге отдать. Даже интересно, неужели и этого выходит?» Ольга безнадюжку выходила, когда безнадюжка стал вставать – это после его-то травм, после четырех операций и шести недель в реанимации без проблесков сознания! – на него приходили смотреть из других отделений и даже из других больниц. Болотову жали руку, говорили всякие хорошие слова. Он радовался и гордился, но совершенно не понимал, почему безнадюжка не только выжил, но еще и на ноги встал. Не должен был. Не мог. Нет, Болотов, конечно, хирург замечательный, и все четыре операции – на высшем уровне, но все это от безысходности было, сам же Болотов и сказал: надежды никакой. Ольга таких слов не понимала. Конечно, она уже всякого успела насмотреться, но твердо знала: надежда есть всегда. И даже тогда, когда уже совсем ничего не остается, остается надежда.