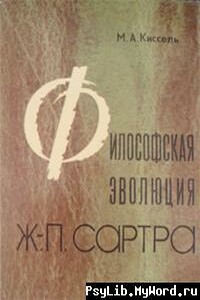Джамбаттиста Вико | страница 49
Социальное неравенство имело бесчисленное множество проявлений и в правовой и в чисто идеологической сфере, причем идеологические соображения оправдывали фактическое социально-экономическое порабощение плебеев. Последние первоначально не имели никаких гражданских прав, и это обосновывалось мнением, что «благородные» происходят от богов, тогда как «подлые» — всего лишь говорящие звери, составляющие «тело» государства. Но так как тело управляемо умом, то естественно, что «благородные» правят, а «подлые» — беспрекословно подчиняются. «Из-за такого неравенства должны были происходить великие движения и революции римского плебса» (там же, 264). Поэтому аристократическое государство исчерпывало свою деятельность «лишь в защите границ и сословий» (там же, 270). Первостепенную роль в этом деле играла религия: на ее авторитете основывали «благородные» свои притязания на исключительность и привилегии.
И снова приходится подивиться необычайной исторической проницательности Вико: он совершенно правильно подчеркивает глубочайшую связь между религией и социальным неравенством, идеологическим оправданием которого она была. Потому процесс развития политических форм, их движение в сторону народоправства сопровождается, как замечает Вико, ослаблением религиозных уз, закатом традиционной «веры отцов». И это тоже вполне правомерное историческое обобщение, которое нам, людям двадцатого века, очень легко подтвердить фактами из истории. Но отношение Вико к этому процессу спокойно объективное, он видит обе необходимости сразу: и необходимость религии на ранней стадии общественного развития, и неизбежность ее падения впоследствии по мере того, как человечество приходит к своему самосознанию.
Мы только что сказали «человечество», и действительно Вико имеет в виду развитие всего человечества, всемирную историю, но реальный базис его обобщений динамики «человеческих гражданских вещей» составляет одна лишь история Рима (главным материалом о «баснословных временах» для него служила древнегреческая мифология и римские ее корреляты). Такая узость эмпирической основы накладывает, разумеется, печать известной ограниченности на исторические суждения Вико, сужает перспективу его мышления. Но опять-таки эта ограниченность была неизбежной ввиду уровня знаний того времени. К тому же римскую историю мыслитель рассматривает как своего рода «прерогативную инстанцию», следуя предписаниям бэконовского «Органона», т. е. как модель социальной эволюции вообще. Поэтому борьба плебеев с патрициями в древнем Риме стала для Вико моделью развития социального антагонизма внутри древнейших городов-государств. Эта борьба, по Вико, была источником поразительных успехов римского народа, ибо, как гласит аксиома 91 «Новой науки», «соревнование Сословий из-за равноправия — наиболее могущественное средство возвеличения Государств» (там же, 96). В ходе вековой борьбы плебеи преобразовывали аристократическую республику в народную, но момент решающего перелома ^определить нелегко. И здесь путеводной звездой для Вико служит история римского права, особенно в том, что касается имущественных отношений. Но право, как и мифология, нуждается в интерпретации, чтобы можно было обнаружить скрывающуюся в нем историческую истину. В обоих случаях надо понять язык явления. Чтобы «прочесть» мифы, нужно понимать поэтический язык, его природу и способ выражения мыслей, ему присущий. Право же выражено в публично издаваемых законах, написанных не поэтическим, а, пользуясь выражением Вико, «простонародным», или «человеческим», языком. Казалось бы, единственное, что здесь нужно, — это знать латынь. Однако и при знании данного языка ученый не всегда понимает подлинный смысл латинских выражений и вкладывает в слова не исторический, а современный смысл. Законы начального периода римской истории обычно модернизируются учеными, истолковываются в духе развитого и кодифицированного римского права, пронизанного философскими абстракциями стоицизма. Следовательно, задача заключается в том, чтобы очистить первоначальный смысл от позднейших наслоений.