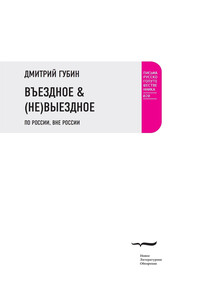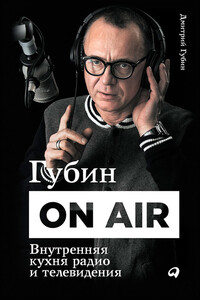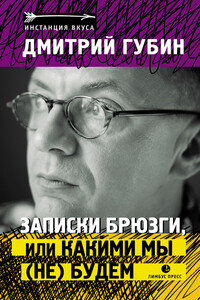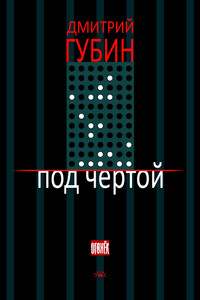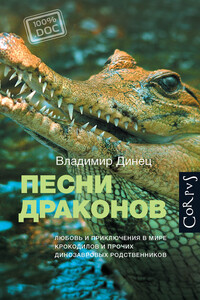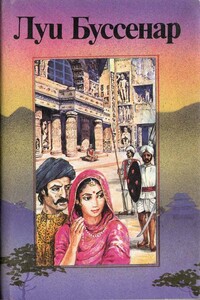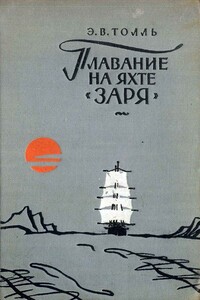По России | страница 81
Эта установка ужасна еще и потому, что не дело музея определять, кто из взрослых людей беден, кто богат. Дело музея: а) свои сокровища сохранять, б) с ними знакомить максимальное число людей. Не говоря уж о том, что предъявление аусвайса (то есть доказательства, что ты – это ты) по сути своей унизительно. Да-да, мне унизительно показывать паспорт даже пограничнику, и потому меня так радует Европа без границ – но, замечу, пограничник действует хотя бы от имени государства, а Эрмитаж – по инициативе Пиотровского.
Поэтому, когда билетерша в Эрмитаже потребовала от меня паспорт, я был потрясен. Я мог заплатить за билет 400 рублей, не в этом дело. Но рядом плакали две подружки без паспортов, у которых денег на полные билеты не хватало. И объясняла что-то тщетно белоруска, говорившая, что всю жизнь проработала на СССР. Это было невыносимо. Невыносимо и унизительно настолько, что на радиостанции «Вести ФМ», где по понедельникам и пятницам у меня в ту пору был утренний эфир, я немедленно устроил обсуждение.
Поучаствовать я пригласил атташе по культуре посольства Франции Бланш Гринбаум-Сольгас (она раньше была главным куратором музеев Франции, и сказала, что во Франции льготы существуют для молодых и пожилых, но по гражданству никто никого не делит, и что российская ситуация иностранцам «обидна»), и замдиректора Третьяковки Марину Эльзессер (она сказала, что в Третьяковке паспорт не спрашивают, и что иностранцы не обижаются) – и, разумеется, Михаила Пиотровского. Чья пресс-служба заявила, что он невероятно занят, и что вообще никто из Эрмитажа участвовать в эфире не может. Поэтому мне пришлось звонить ему в прямом эфире на сотовый телефон, за что я тут же получил обвинение в «неинтеллигентности» (за которую готов извиниться, если директор Эрмитажа, конечно, оплачивает телефон за свой счет, а не музея).
И от Михаила Пиотровского я услышал – что да, гражданство нужно доказать, и что это вполне нормально. И он добавил, что паспорта нужны, чтобы по льготной цене в Эрмитаж не попадали «жулики и аферисты».
«Жулики и аферисты не имеют права не Рембрандта?» – спросил я, не веря своим ушам, ибо видел на входе этих аферисток, этих плачущих девушек. «Имеют, но за полную цену», – уточнил Пиотровский.
И я понял, что стояло за его словами. За ними стояла не идея открытости культуры, и не идея общности мира, и не идея объединения людей, – а идея культурного распределителя. Хозяин которого неподотчетен получателям, и сам решает, кому, сколько и чего предоставить (и которого получатели благотворят за льготы). Я понял вдруг в секунду многое – даже то, отчего наши музейные бабушки-хранительницы в музеях так набрасываются на тебя, охраняя «культурное достояние» (но очень редко помогают и никогда не улыбаются). Меня вон, в день паспортизации на входе, одна из них не пускала в Эрмитаже на перформанс Бартенева, требуя какой-то немыслимый «бейджик» (Бартенев потом был в шоке), а когда я открыл все же дверь, побежала за милицией, поскольку я в ее глазах (без бейджика!) уж точно был жуликом.