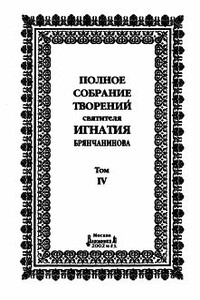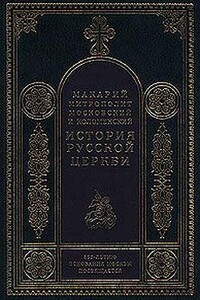История богослужебного пения | страница 21
Ошибочно было бы понимать становление новозаветного богослужебного пения только как процесс механического собирания и объединения различных принципов и родов пе'ния, как простую эксплуатацию уже существующих традиций, ибо становление это представляло собою прежде всего жесткий отбор и отсев мелодических средств, осуществляемый на основе тщательного рассмотрения их духовно-этической природы с позиций новой христианской жизни. «Изнеженные напевы и плаксивые ритмы, эти хитрые зелья карийской музы, развращают нравы, своим разнузданным и коварным искусством незаметно, вовлекая душу в разгул космоса (народного гулянья с пением)» [71, с.98],— пишет Климент Александрийский, один из первых учителей Церкви, подробно занявшийся вопросом взаимовлияния пения и жизни. Именно от него берет свое начало святоотеческое учение о богослужебном пении как о единстве пения и жизни, сформулированное в положении: правильное пение есть следствие праведной жизни, и праведная жизнь есть условие правильного пения. Таким образом, возникает положение, согласно которому праведная жизнь уже есть пение. Святитель Григорий Нисский так раскрывает эту мысль: «Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления), но получал бы сверху, из небесных высот, свое чистое и внятное звучание. Слушатели этого псалма суть в иносказании те, кому ты подаешь пример достойной жизни» [71, с.11О]. Ведь исполняя новую заповедь, человек уподабливается ангелам, а поскольку пение есть неотъемлемая часть ангельской природы, то и жизнь праведного человека становится пением.
Такое понимание пения рождает учение о человеке как об инструменте Духа Святого. «Станем же флейтой, станем кифарой Святаго Духа. Подготовим себя для Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется плектром наших душ!» [71, с.116] ,— пишет святитель Иоанн Златоуст. Различные части человеческого тела уподабливаются частям музыкального инструмента: «Щеки, язык и устройство гортани — все это похоже на струны, по которым движется плектр, настраивая их высоту сообразно надобности. Губы, сжимаясь и разжимаясь, производят то же самое, что и пальцы, бегающие по отверстиям флейты» [71, с.111],— пишет святитель Григорий Нисский. Развивая эту музыкальную антропологию, святитель Василий Великий как бы продолжает предыдущую мысль: «Под псалтерионом — инструментом, построенным для гимнов нашему Богу,— должно иносказательно разуметь строение нашего тела, а под псалмом следует понимать действие тела под упорядочивающим руководством разума» [71, с.104]. Отсюда вытекают и практические выводы: «Музыка есть не что иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать струн сверх должного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в нарушающих меру удовольствиях: ведь если душа расслаблена подобными состояниями, она становится глухой и теряет благозвучность. Вообще музыка наставляет натягивать и отпускать струны в должное время, наблюдая за тем, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял правильную мелодию и ритм, избегая как чрезмерной распущенности, так и излишней напряженности» [71, с.109]. Эти слова святителя Григория Нисского, являющиеся ключевыми в понимании святоотеческой музыкальной антропологии, отражают высшее развитие, очищение и преображение античного учения об этосе, а также полагают основание нового, чисто православного понимания богослужебного пения.