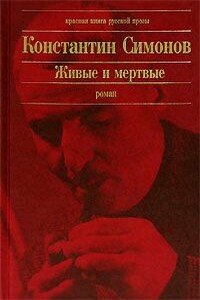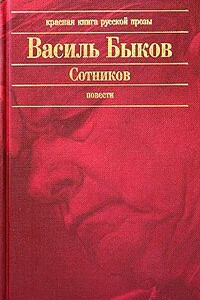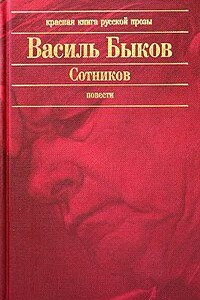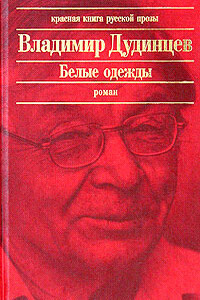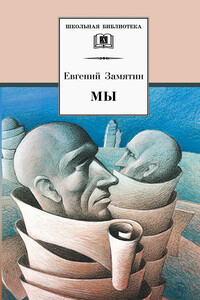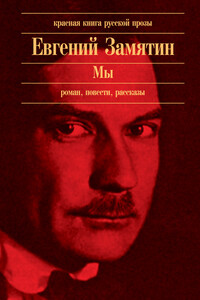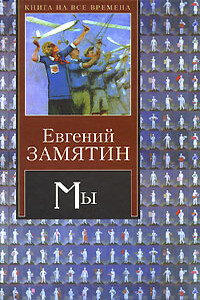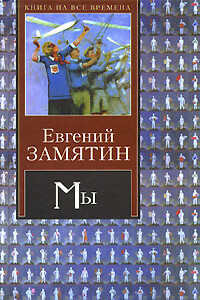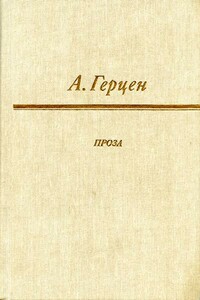Алатырь | страница 24
– Прости, прости, богочтимая, – с катка мчался Костя к Глафире…
Оголтело влетел в светелку – и бух на колени:
– Прости, прости, богочтимая!
Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик:
– Ну, чего разнюнился-то?
– …А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара… Прости, богочтимая… – блаженно, с закрытыми глазами Костя стоял на коленях.
Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.
– А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти… – Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.
Молния ночью жигнет – и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел…
Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:
– Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слыхал? На катке-то?
Костя лежал на укладке – поднял голову…
– …Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Собачея-то, в кровь искусала исправникову. Вот он – князь мира-то сего, дьявол-то!
Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый… Всех погубил, всех опутал – князь мира.
Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро – и марш на почту.
На почте еще ни души. Один сторож Ипат – подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться – хоть вылечился Ипат, но по сею пору считался опасен, и рисковала держать только казна.
Нанес Костя снегу, Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата… Сел за свой столик, взял телеграфный бланк – и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были – на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь – есть диавол, князь мира, и подлежит…
Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян. Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.
Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза – Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его – хоть он и князь мира – и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:
– Пропали мы! Пропали, пропали…