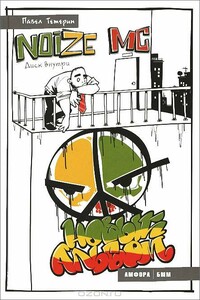Диспансер: Страсти и покаяния главного врача | страница 46
И я рассказываю ей о профессоре Сергее Сергеевиче Юдине. Как он любил живопись и литературу, и как двери его клиники были широко открыты писателям, художникам, музыкантам: профессор считал, что хирург, который не воспринимает живые краски природы, не восторгается картинами и стихами, не понимает серьезную музыку, такой хирург не сможет легко и точно сопоставить ткани. Я рассказываю ей о Л. Толстом и Достоевском; она читает «Братьев Карамазовых» и «Идиота». Мы беседуем о Добре и Зле, о нравственности и о грехе. Другая бы заснула, но эта — одна из четырехсот. Статистически достоверна. Гуманитарное образование сочетается с профессиональным. Из нее получается отличная операционная сестра. Она строгая, аккуратная, четкая. Ей можно доверить собственную жизнь и жизнь больного. Ее обширное хозяйство в исправности, документы в порядке. А наши с ней операции — это уже танцы на льду. Она знает и чувствует, и берет темп. И скорость нарастает, и музыка общая. Спелись мы. Она уже понимает мои недостатки — рассеянность, забывчивость. Помогает, бережет по мере сил: запишет, напомнит, умеет печатать, где эпикризы оформит или на обход со мной, когда нужно. На инфузию прибежит, вообще везде поможет, где трудно. А когда на душе тяжело, подойдет и утешит: «Скушайте конфетку», — говорит (у нее всегда конфеты при себе). Скушаешь конфетку и, правда, легче становится.
Ударились об нее Людмила и Паша, да без толку. Покрутились, удивились и объявили: «Операционная сестра — племянница главного». Людям вообще свойственно находить простые объяснения. Вот они и нашли для себя.
Шефу моему, между тем, гуманитарное направление понравилось. Он одобрил лекцию по истории русской живописи, привлечение классиков, литературных памятников. И выразился в том смысле, что интеллигент — это, прежде всего, просветитель. Никуда не денешься. Нужно сеять разумное, доброе, вечное. А что делать? Хорошо бы только по системе Станиславского: не очень перегреваясь, за счет техники. Но уж тут кому Бог дал.
У меня, например, бывали срывы, возникали неврозы. Модель одного невроза я очень хорошо запомнил, теперь уже не попадусь вторично. А в первый раз это получилось так. Уехал я в отпуск с дочерью в Ленинград. Архитектура, памятники, Растрелли, Гоцци, кони Клодта, фонтаны и Невский, Зимний Сад и пушкинские строфы, и Медный Всадник, Русский музей, Эрмитаж. Опять скульптура и маленький Амур склоняется к нежному плечу обнаженной Психеи, и душа уносится на Эоловых струнах. И слепая девушка — Смирение. Я увидел ее впервые в сорок пятом, из крови и ярости, из грохота, дыма и смрада, когда жрали из того ведра, куда оправлялись, и вши бежали в десять рядов, одни наверх, другие вниз потоками. Вот это все заполняло и затмевало. Мне было 16, за поясом финка, и я лязгал зубами. И вдруг — эта девушка Смирение — бритвой по сердцу. Покой, любовь и мир. И, в самом деле, был уже мир, война закончилась. И ноги «Блудного сына» Рембрандта, и животные прелести Рубенса, и мясистые голландские натюрморты, и веселое безумие Фальконе — все говорило о жизни. И вот сейчас я снова здесь, со мной дочь, которой 16 лет. И все обыденное ушло, растворилось, исчезло. Великое искусство уносит в небо, гремят божественные оркестры, и звезда со звездою говорит, и стук в дверь неожиданно, и телеграмма: «Немедленно возвращайтесь. Диспансер закрывают». Кубарем самолетом назад.