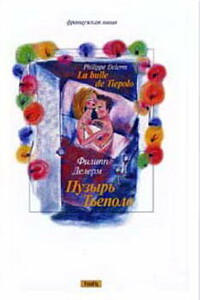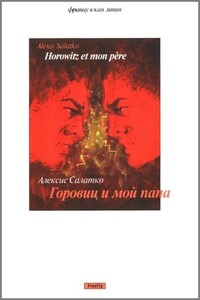Страшные сады | страница 33
Мадемуазель Ингеборга… Уменьшительно: Инга!.. Он позволил себе роскошь сообщить мне полное имя моей возлюбленной, украсть у меня эту близость. Я готов был съесть свои фетровые тапки!
Мы пошли через парк. К крытой аллее с обвитыми зеленью сводами. Там-то, не ко времени, я закатил Инге сцену, заявив, что, очевидно, немец всегда остается пруссаком в душе и что надо бы переписать всех внебрачных детей Гиммлера… Я был невыносим, и губы Инги побледнели… Садовник, по-прежнему на коленях, выкапывал луковицы. От звука французских слов он обернулся, привстал, поспешно вытер руки и направился к нам. Огромный, в духе Эррола Флинна, закрученные усы, зачесанные назад волосы. Похож на провинившегося мажордома, приговоренного к принудительным работам. Он очень вежливо спросил, откуда я приехал. Лилль, Север. Едва услышав ответ, садовник пришел в страшное волнение. Он взял мои руки, со слезами на глазах чуть ли не целовал их, а меня от всего этого уже начало тошнить — мне совсем не нравилось быть воплощением Будды, живой статуей, которой поклоняются как миссии!.. Я улыбался, в духе до свидания, всего хорошего, но для него и речи не могло быть, чтобы выпустить меня, он объяснял Инге: Камбрэ, Валенсьен, его жена Розелин, он Адриан, я не понимал его обрывочных отрывистых фраз, только то, что он повторял через каждые два слова, Розелин, Розелин!.. И вот эта самая Розелин уже подбегает, решив, что ее муж порезал палец, копаясь в саду, она волнуется, взгляд изучает рубцы, она кричит на него, потом вдруг останавливается и, как в замедленной съемке, поворачивается ко мне:
— Не говори, чт’ты’с!.. да, ты из Лилля, я родилась в Ваземе, в самом центре!..
Ее глаза увлажняются, вот она уже возле меня, плачет, а я, ты же знаешь, я не умею бороться с печалью, услышав говор маленьких людей из моих краев, здесь, во владениях изысканного немецкого общества, и я тоже даю волю чувствам, реву, как плохо воспитанный мальчик, Адриан заключает меня и Розелин в объятия, мы сотрясаемся от рыданий в этих роскошных садах, и вид у нас такой, что даже Инга, девушка, поцелованная солнцем, свободная и раскованная, плюющая на то, что обнажает свои ягодицы перед первым попавшимся французом, даже она, глядя на эти объятья, сжимает губы и старается не зареветь подобно нам троим.
Потом они рассказывают нам. Адриан и Розелин. Мы в их комнате в жилых помещениях замка. Они приготовили настоящий кофе, не тот обычный суррогат, который все еще пьют у Теодора с Гертрудой, и Розалин надела блузончик, как она выразилась, с кружевным воротничком. Слова, на немецком, на французском, перемешивались над их неловкими руками, уставшими, лежащими на скатерти. Адриану удалось избежать службы в корпусе СС, поскольку он был на сантиметр ниже, чем требовалось. Но, разумеется, его все-таки мобилизовали в Вермахт. Он не смог стать, как того хотел, левым нападающим в дортмундской «Боруссии», антифашистском рабочем клубе из Рура, который был уничтожен Геббельсом и его архангелами… Адриан служил охранником русских заключенных в лагере в Валенсьене. И однажды, из-за того, что его начальство не разрешило ему организовывать в лагере футбольные матчи с этими русишами, он решил дезертировать. Ничего не планируя, как-то утром, по дороге на свой пост, он, сказав, что ему нужно отойти по нужде, уединился, а потом бросился бежать, не разбирая дороги, по улицам и полям, через парк Эско, мимо шахтерских поселков, раз двадцать он мог умереть, пока не добрался до кафе около одной из шахт. Сорвав знаки отличия с униформы, он положил ружье на стойку и посмотрел в глаза трактирщику. Он поставил на карту все. Трактирщик взялся рукой за ружье, и Адриан подумал, что вот сейчас, здесь, перед толстожопыми пивными кружками и стопками для самогона, он подарит свою тень дьяволу. И тут позади него кто-то сказал: