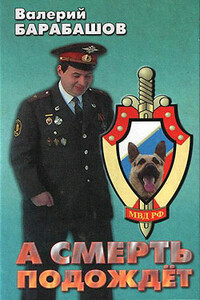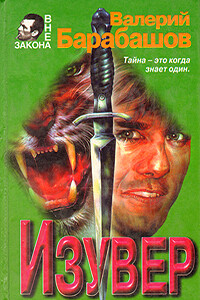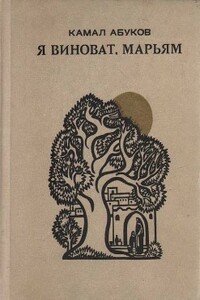Белый клинок | страница 63
— Да Маншина, Демьяна, — весело ответил чей-то молодой голос. — Я, говорит, сам этот мешок на телегу клав, до дому собрався утащить.
— Мало ли что клав, — уронил начальственное Колесников. — Добро теперь общественное, коней кормить…
Он вернулся в дом, хмуро, мимоходом глянув на побледневшую Лиду.
Этой же ночью штаб Колесникова переехал на новое место — в хутор Новая Мельница. Хутор стоял под бугром в затишке, в лунной тени еще одного бугра, слева. Внизу блестела схватившаяся льдом речушка Черная Калитва, вяло дымили десятка полтора труб, заливисто брехали разбуженные собаки, фыркали, осваиваясь в новых конюшнях, лошади штабных.
Лиду поместили в боковухе небольшого деревянного и теплого дома, хозяйкой которого была острая на язык старуха Авдотья — уже в первые минуты она наговорила Лиде бог знает чего: и чтоб сама себе «постелю» хлопотала, и чтоб корову ей доила, и чтоб полы через день мыла — будут тут топтать… За стеной разлеглись Опрышко с Филимоном Струговым. Опрышко почти моментально захрапел — да какое там захрапел! Стекла зашлись протестующим нервным звоном!.. А Стругов долго возился, вздыхал, почесывался: донимали, видно, блохи.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Лежа на жесткой полке прокуренного и неимоверно скрипящего вагона, Шматко намеренно делал вид, что спит. Говорить ему с попутчиками — двумя без умолку тараторящими бабами и пыхающим самокруткой мужиком — не хотелось. Было о чем подумать в этом переполненном людьми поезде, медленно ползущим на юг губернии. Да и не стоило привлекать к себе внимание. Бабы явно любопытные: та, что помоложе, несколько раз уже поднимала голову, звала попить вместе с ними кипятку — мол, не стесняйся, парень, если у тебя ничего нету, и сахарину найдем, и кусок хлеба, слезай. Шматко сказал, что ел недавно, сыт, скоро будет дома… К тому же он не любит сладкого. А за приглашение спасибо, бабоньки…
Его оставили в покое, и Шматко, повернувшись на шинели, затих. Смотрел в крашенную липкой коричневой краской стену вагона, слушал близкое сырое дыхание паровоза, лязг буферов, думал. Часа через три поезд придет на станцию, до родной Журавки там рукой подать, две версты. Можно и пешком, а случится какая оказия — подъедет.
В Журавке, кроме тетки Агафьи, тугой на уши старухи, теперь у него никого нет. Отца в восемнадцатом году забили шомполами казаки генерала Краснова, мать померла следом, по весне. Дом их стоит пустой, разграбленный. Тетка присылала как-то письмо, написанное соседской девчонкой: не обессудь, Иван, что не уберегла ваше добро — лихие люди все повытаскивали. Да какое там «добро»! Ухваты остались и чугунки. Живности у матери было две-три курицы да тощий петушок, ну, одежонка кой-какая осталась от отца…