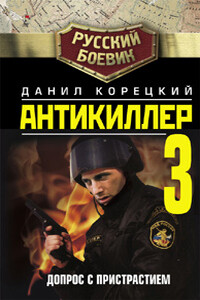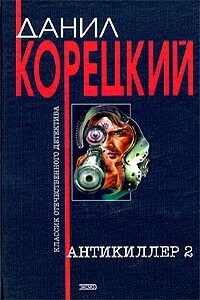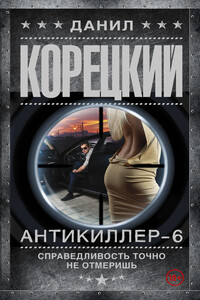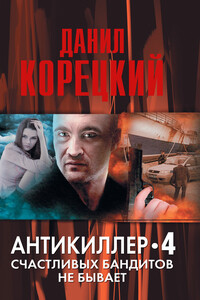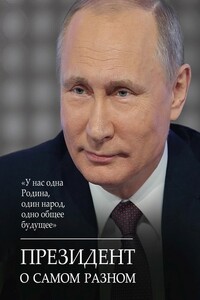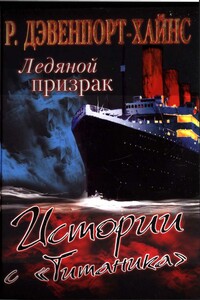Время невиноватых | страница 56
Изучение судебной практики порождает серьезные вопросы и об обоснованности оценки действий «пассивных» соучастников. Например, три приятеля — И., В. и С., пропьянствовав весь вечер и оставшись без денег, вошли в коммерческий киоск. И, под угрозой ножа отобрал у продавщицы деньги, блок сигарет и несколько бутылок водки, после чего все трое пытались скрыться, но были задержаны милицией. К уголовной ответственности за разбойное нападение был привлечен только И. А граждане В. и С. выступали в роли свидетелей, хотя изобличающих собутыльника показаний не давали, утверждая, что «ничего не помнят». Между тем. в реальности все трое являются соисполнителями разбойного нападения, в ходе которого один преступник угрожал оружием и требовал передачи чужого имущества, а двое других самим фактом своего присутствия поддерживали неправомерные действия и оказывали психическое воздействие на потерпевшую. Говорить об «эксцессе исполнителя» или других основаниях для освобождения от уголовной ответственности В. и С. можно было бы только в том случае, если бы они пресекли преступные действия И. Или явно и наглядно отмежевались от них, например, со словами осуждения покинули место преступления. Этот пример не единичен: в силу сложившейся судебной практики пассивные соучастники никогда не привлекаются к уголовной ответственности. Столь ненормальное положение можно изменить путем издания Пленумом Верховного Суда РФ соответствующего разъяснения. В законодательном же плане могло бы сыграть превентивную роль возложение на лиц, находящихся совместно с преступником на месте совершения преступления, обязанности пресекать противоправные действия и сообщать о них в органы внутренних дел. Невыполнение этой обязанности позволяет расценивать их пассивное поведение как соучастие в преступлении.
Поправки в уголовный кодекс — выстрел в сердце законности
— Как вы оцениваете недавние изменения, внесенные в статью о терроризме?
— Они демонстрируют состояние современной законодательной практики — неадекватной состоянию преступности и носящей формально-конъюнктурный характер. Посудите сами: разве может повышение наказания на несколько лет остановить террориста? Не решает проблемы и введение пожизненного заключения вместо 20 лет лишения свободы: ведь и в этом случае возможно условно-досрочное освобождение через 25 лет, а в начале срока такая разница практического значения не имеет. Не способна пятилетняя разница оказать сдерживающего воздействия и на потенциальных террористов, в отличие от смертной казни, которая способна устрашить если не зомбированных «шахидов», то организаторов террористических актов. По существу, законодатели «выстрелили вхолостую», надеясь оправдать социальные ожидания, но при этом продемонстрировали незнание сущности уголовно-правовой превенции и признали, что действующий Уголовный кодекс не является универсальным документом, а требует регулярных дополнений в ответ на резонансные преступления, совершаемые, преимущественно, в Москве.