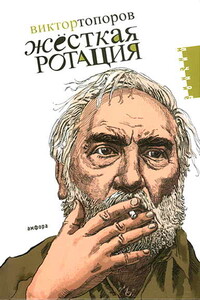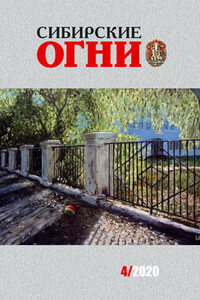Тотальное погружение | страница 2
Но сперва государству, обществу, разумной, по Гегелю, цивилизации ("Деспотия деспота сменилась деспотией толпы". Джон Стюарт Милль) пришлось отжать человека на обочину. Человека — думающего, чувствующего, способного на поступки, в том числе и на идейные — идеалистические — поступки, — на обочину, на поля уже исписанного листа, где специально оставлено место для легко стираемых карандашной резинкой заметок-маргиналий. В маргиналы. Человек бунтующий Альберта Камю и восстание масс Ортега-и-Гассета, противоположные по знаку, в равной степени остались в прошлом. Человеку было предложено (приказано) превратиться в Человека Играющего. В Веселого Проказника. А действительности — застыть в инварианте. В многообразном (всеядном), но все равно инварианте. Виртуальной же действительности, в которую (в широком смысле) входят религия, философия, искусство и весь спектр платонических чувствований, — саморазоблачиться в качестве безобидного хобби.
Нельзя сказать, чтобы этот процесс "пошел" легко, хотя бы потому, что он сразу же пошел в обе стороны. Разве не истинным приколом стало, например, создание государства Израиль и в особенности воскрешение в нем мертвого языка иврита? Разве не прикольным оказался эксперимент красных кхмеров? Или массовое самоубийство в Гайане? (Вот, кстати, где простор для аналитика: что из происшедшего в Джорджтауне было от веры, а что — от злоупотребления наркотиками?) И разве не к виртуальной действительности относится нынешняя независимая Россия, искусственно вычленненая из реально существовавшего СССР? А полеты в космос — зачем, куда, чем они отличаются от полетов Карлоса Кастанеды? или паломничества в Мекку, совершаемые нынче при помощи туристических агентств на самолете: чем в таком случае хадж отличается от trip'a? А смертный приговор, вынесенный Салману Рушди за "Сатанинские стихи", — из какой действительности он?
Молодежь (а точнее, молодость) мира, оттесняемая на обочину, изгоняемая в виртуальную действительность, вела жестокие арьергардные бои далеко не только виртуального плана. Характерно при этом, что вовсю срабатывал мотив компенсации: каждый (в каждой стране) стремился испытать то, в чем чувствовал себя обделенным. Русские слободчане конца пятидесятых, не хлебнувшие "экономического чуда" (и, соответственно, не нахлебавшиеся им досыта), нацепляли брюки-дудочки и отпускали длинные волосы, терпя за это поношения, а то и избиения со стороны своих сверстников, опоздавших родиться пламенными чекистами. В Западной Германии, Италии, Японии, побежденных и униженных в итоге второй мировой, уходили в "красные бригады" и им подобные террористические организации. В благополучнейшей Франции устраивали едва не переросшие в революцию студенческие волнения. В объевшейся и нейтральной Швеции ставили рекорды по числу самоубийств. В стране Освенцима — Польше — увлекались антисемитизмом ("платоническим антисемитизмом", как определил один из исследователей). Из примитивно-социалистической Болгарии всеми правдами и неправдами выживали былых поработителей-турок, кровь которых течет в жилах едва ли не у каждого болгарина. Национализм (в Северном полушарии) расцветал и расцветает в двух видах: как державно-спекулятивный, с одной стороны, и как ностальгически-виртуальный — с другой, становясь (во втором случае) не "последним прибежищем негодяя", а последним прибежищем маргинала, ни за что не желающего смириться с собственной маргинальностью.