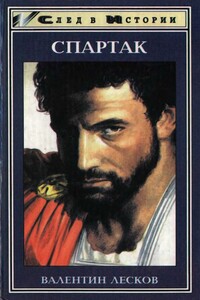Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии | страница 66
Известно, что на XIV и XV вв., особенно на XIV-й, пришелся демографический спад, начавшийся, вероятно, в первой половине XIV в., когда в 1317-1318 гг. вновь случился большой голод и в результате сокращения населения произошло то, что называют «исходом из деревни». Этот демографический кризис резко усугубился с 1348 г. в результате нескольких эпидемий черной, т.е. бубонной, чумы. Напомню, что финансы городов, князей и государств сильно истощались и из-за войн.
Помимо более или менее тяжелого демографического бремени налоги в течение последних двух веков традиционного средневековья переживали подъемы и спады и по другим причинам: хотя государства нуждались в более существенных доходах для укрепления власти, сопротивление населения, как правило, до XVI в. не позволяло им ввести постоянный налог. Государство, усвоившее как будто лучшую фискальную практику — Папское, — тоже переживало подъемы и спады. Унифицирующая деятельность Апостолической палаты, обращение к светским банкирам сделали авиньонское папство в первой половине XIV в. первой финансовой державой христианского мира. Его отношения с итальянскими городами и государствами и некоторое время с Французским королевством были в основном приемлемыми, зато в Германии император резко противился папским притязаниям, а английская монархия и Святой престол практически постоянно находились в состоянии налоговой войны. Подобная же ситуация отчасти сложилась и во Франции в XV в. Из двух главных видов фискальных поступлений папства десятины, которые поддавались учету, можно было привести в соответствие с эволюцией доходов от бенефициев. Зато аннаты, выплачиваемые епископствами в периоды, когда место бенефициара оставалось вакантным, не отличались такой гибкостью и бывали очень тяжелыми.
Папскому казначейству нередко приходилось соглашаться на получение аннатов в рассрочку и даже делать на них скидки. Наконец, авиньонское папство часто сталкивалось с сопротивлением государств, считавших, что такие сборы фактически наносят ущерб государственным финансам.
Для рассказа о фискальной системе государств и ее эволюции в XIV и XV вв. показателен пример Франции. Этот процесс приобрел первостепенную важность при Филиппе Красивом (1285-1314). Король и его советники сначала попытались обложить более или менее длительным, если не регулярным, налогом рыночные сделки. В 1291 г. «для защиты королевства» был введен налог «денье с ливра», который должен был распространяться на всех и взиматься шесть лет. Поскольку собираемость этого налога была слабой, в 1295 г. король переложил его с продажи товаров на их запасы. Введение такого побора не увенчалось успехом. Филипп Красивый хотел также ввести на национальном уровне сборы, успешно опробованные в нескольких городах. Этими налогами облагалась приобретенное состояние или доход уроженцев королевства. Их представили как альтернативу воинской повинности, некогда возложенной на всех мужчин королевства, и для того, чтобы придать этому вымыслу больше убедительности, королевская власть заявила, что их будут взимать до общего сбора арьербана. Новые налоги взимались в 1302, 1303 и 1304 гг., и король добивался согласия на это в ассамблеях от церковных и светских магнатов, а иногда от городов, имевших особые отношения с королевской властью и называвшихся «добрыми городами». Введенную в 1341 г. габель в 1356 г. пришлось отменить. Такие старания ввести королевские налоги вошли в число главных причин периодических восстаний XIV и начала XV в. и, главное, надолго усилили власть сословных собраний, некоего зародыша парламента, на утверждение которых король должен был передавать вопрос о введении новых податей. Французской королевской власти также не удалось — возможно, она и не пыталась это сделать — улучшить управление налоговой системой. У финансов французской монархии XIV-XV вв. не было бюджета, а поскольку средневековые документы со сведениями о ценах и численными данными — редкость, пытаться его рассчитать очень трудно. Во всяком случае, кроме как накануне крупных военных операций, например в Столетней войне, эта монархия не интересовалась финансовыми прогнозами, и занимались ими лишь некоторые особо важные экономические и финансовые центры. Это, как показал Уго Туччи, можно сказать о Венеции