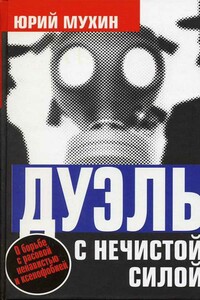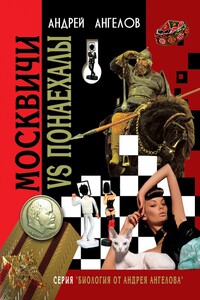Литературная Газета, 6404 (№ 07/2013) | страница 102
Под утро, когда последние строки, как колёсные пары паровоза, отдаляясь, ещё стучат в мозгу, и вспыхивает животный ужас: Боже мой, один на весь белый свет - кричи, не докричишься, словно заплутал в сибирских суземках, и солнце вдруг схитили бесы навсегда. Самое печальное и невыносимое - сбиться с путика, и весь мир тогда вдруг становится короче воробьиного носка, и анчутки слетаются отовсюду и жадно цепляются за пяты.
А потерять дорогу, свалиться под выскеть, в лесной бурелом так легко. Нахальные тварюшки скоро выпьют и вычеркнут из людской памяти. Вот и глаз один вытек, вставили стеклянный, и тот скоро выпал из глазницы, закатился в щель. И второй зрак покрыт туманом, рука вот отсыхает, ноги едва носят. А стихи приступают ежедень, будто "каппелевцы на Чапая".
Бомж я, несчастный бомжара[?]
Что же ты, Родина, мстишь
неразумным Гайдаром?
Не мазурка - пляшет мензурка в руке.
Я из тех "неуспешных", кого хазары
На голодном держат пайке.
[?]Юрий Николаевич, и никакой ты не "бомжара", несмотря на всю стужу и нужу, но человек, достойный поклонения. Бомж порывает с духовным миром, с картинами детства, с любовью, семьёй, с Богом, он отпускает свою душу на волю, ибо на том "дне", куда попадает, душа - страшная помеха. Бомж погружается в животное, звериное качество, откуда с таким трудом выполз когда-то человек, он выпадает из чувственного мира в бесчувственное, теряет Христов образ и не только изгоняет Бога из груди, но и утрачивает всякое желание походить на него; он смиренно, покорно источается плотию, как луговая трава, ждущая косаря. Это не блаженный и не юродивый, не калика перехожий, не милостынщик с зобенькой Христа ради, которые ни на минуту не забывают Сладчайшего. Грань близка, но непреодолима.
Поэт же живёт воображением; при малейшей попытке убежать в изгои, погрузиться в городские теснины он невольно теряет связь с небесами, откуда и навещают чувственные стихиры. Поэтому, наверное, и нет в истории литературы ни одного поэта (я не знаю), который бы упал в самые низы и порвал со стихами; он скорее сведёт счёты с жизнью, чтобы не надоедать миру своим присутствием, своей болью.
Хотя с образом бомжа ты пытаешься слиться (умственно); тебе с ним, наверное, приятно бы поладить, хотелось бы оказаться в одной упряжке, переломить один хлебец, испытать презрение и отчуждение сытых, тех, что надменно проходят мимо в бобровых шубах, - только бомж не переживает так остро от своего бездомья: это закалённый человек, он находит сугрев в подвале, в котельной, в собачьей будке, на дне бутылки. И потому это лишь умственная спайка. Бомж не боится оказаться в безымянной ямке. Он "цивилизованный" быт обменял на звериную волю. Можно жалеть бомжа, мысленно напяливать его шкуру, но никогда не понять его сущности. Пока сам не опустишься на то самое дно, когда-то красочно описанное Гиляровским и оромантизированное социалистом Горьким, жившим на Капри.