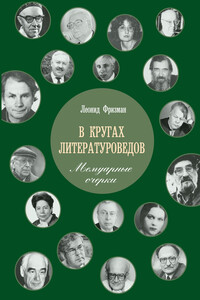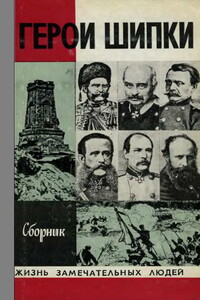Марлен Дитрих | страница 13
Если Дитрих, давняя поклонница Висконти, и признала повторение «чуда», то, наверное, потому, что, без сомнения, была польщена явным знаком почитания и уважения в свой адрес, так как Хельмут Бергер в 1969 году в фильме «Гибель богов», переодевшись в женское платье, сенсационно исполнил песню, которую пела ее Лола-Лола в «Голубом ангеле». Четыре года спустя он привлечет к себе внимание удивительным перевоплощением в роли Людвига II Баварского, это чудо, которое только Висконти и никто другой мог сотворить с артистом, причастным к личной жизни итальянского мастера. Главное отличие лишь в том, что настоящая исполнительница роли Лолы-Лолы смогла впоследствии и без Штернберга творить чудеса: и создавать свои собственные образы, и смотреть на них тем влюбленным взглядом, благодаря которому происходит волшебный эффект. «Быть недооцененным» — это, безусловно, личное мучительное переживание Штернберга, которое он переносил и на Марлен. Комплекс неполноценности, как и совершенно противоположный комплекс — превосходства над другими, — могут привести к опасным последствиям: к паранойе и мегаломании, иначе говоря, к мании преследования и мании величия. А распространенное мнение, что комплекс — это признак гениальности, часто оказывается ошибочным. В творчестве основополагающим началом является гениальность, которая в первую очередь в содружестве с интеллектом может подавить комплексы и даже с успехом их использовать. Во всяком случае, мысли о том, что ее недооценивают, посещали Марлен, безусловно, только до «Голубого ангела». И поэтому смиренное выражение благодарности в адрес Штернберга не всегда выглядит правдиво и звучит искренне только в явно самовосхваляющей формулировке: «Только ты один умеешь показать мои достоинства».
Тем не менее красота Марлен была замечена и оценена еще в Берлине, а далее она лишь была подчеркнута и не столько лично Штернбергом, сколько техническими средствами голливудских киностудий. В Германии никто не замечал ее жизненную силу, энергию. В первых фильмах ее красота, в первую очередь, пожалуй, красота глаз, вполне заметна и запоминается. Но создатели фильмов не могли разглядеть в ней потенциала и подавали ее в кадре на редкость неудачно, в результате она выглядела на удивление медлительной, блеклой, какой-то безжизненной и, видимо, чувствовала себя неловко, ей чего-то недоставало, отчего она казалась то аморфной и апатичной, то робкой и боязливой, а то сдержанной и настороженной, короче, невыразительной. Так, в фильме «Целую вашу ручку, мадам» 1928 года, комедии из светской жизни, с ситуациями, пожалуй, даже не менее смешными, чем в американских фильмах Эрнста Любича, в частности в «Ангеле» 1937 года, лицо главной героини в исполнении мягкой, элегантной и весьма пышной Марлен с томным взглядом пусть даже лучистых глаз лишено живости, как и рука, протянутая для поцелуя чересчур напыщенному Гарри Лидтке.