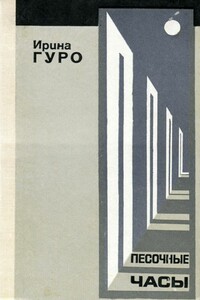Не оглядывайся, сынок | страница 55
Развилка. Стою, как былинный богатырь у трех дорог. Терять-то мне особо нечего, голову снести в любой стороне могут, клад меня золотой не интересует, а вот по какой дороге рота прошла — знать бы! Указатели есть, да что толку — одни ничего мне не говорящие названия сел. После недолгого раздумья сворачиваю вправо, в самое ближнее отсюда село. А то уже вечереет, не спать же в открытом поле под дождиком.
Село почти не тронуто. Бой, видимо, прошел стороной; только край села, где когда-то была колхозная ферма, порушен. Да и то, возможно, не сейчас — при отступлении.
Остро пахнет кизячным дымом. Тут не в нашем лесном краю, дровами разжиться не просто, топят кизяком.
— Заходьте до хаты. Тай нэ стэсняйтэсь.
Женщина пожилая, постарше моей мамы, а голос девичий — мягкий такой, распевный.
— Заходь, сынку. Батька мий радый будэ.
Горница чистая, увешанная расшитыми полотенцами — рушниками.
— Глянь, батько, якого я тебе гостя привэла! — говорит хозяйка, переступив порог.
С лавки тяжело поднимается, видно когда-то плечистый и коренастый, а теперь грузный и оплывший дед, виснет на моих плечах, троекратно целует.
— Вот и дождался радости. А то ведь думал, помру и не увижу боле родных-то сынков. Одни хари ерманские два года бачил. А у меня силы-то против их нет, сколько уж с лавки не сползаю. — Он ощупывает меня, будто слепой. Справная одежка-то. И погоны, вишь. Унтером, значит, служишь. Молодец, внучек. Я тож в первую ерманскую унтером служил…
Хозяйка смотрит на нас, скрестив на груди руки, и по щекам ее текут слезы. Перехватив мой взгляд, она утирает глаза обористым рукавом кофты, улыбается грустно, спохватывается:
— Ой, лишеньки, чего ж я стою… И вы не стойте, сидайте, к столу, сидайте… — и сама убегает куда-то.
Дед усаживает меня за стол, покрытый старенькой, но свежепостиранной скатертью. Хозяйка вносит казанок с борщом. Он него по горнице распространяется такой дурманящий запах, что у меня спирает дыхание. Хозяйка споро расставляет крынки, стаканы, кладет ложки и откуда-то из-под печки достает завернутую в тряпицу бутылку.
Дед дрожащей рукой разливает самогон, поднимает стакан:
— За твое здоровье, внучек. Спасибо тебе, от всех нас благодарствую — освободил от проклятого ворога. И за то спасибо, что не побрезговал нами, гостем в хату зашел… — Дед склоняет в поклоне голову.
А мне стыдно. Стыдно, что я-то тут совсем ни при чем, что непричастен я к освобождению села и весь бой за него просидел около дурацкого подвала с пшеном и солеными огурцами. И я чуть было не сказал об этом, но вовремя сообразил, что по сути не меня лично благодарит дед, а видит в моем лице всю Красную Армию, всех советских солдат, и каждый из них для него — освободитель. И я с чистой совестью чокаюсь с дедом и хозяйкой, у которой влажнятся глаза и подрагивают губы.