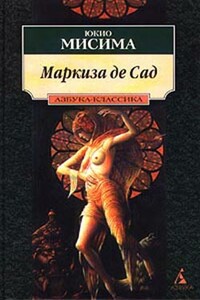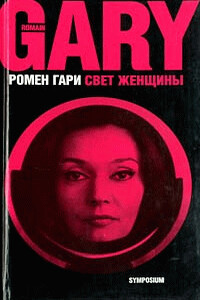Обещание на заре | страница 48
Я знал также, что человек, давший мне свою фамилию, имел жену и детей, много разъезжал, бывал в Америке; мы с ним не раз встречались. У него была приятная внешность, большие, добрые глаза и очень ухоженные руки; со мной он всегда был несколько скован, но очень мил, а когда смотрел на меня — грустно и, как мне казалось, немного с упреком, — я всегда опускал глаза, потому что возникало непонятное мне самому впечатление, будто я сыграл с ним какую-то дурную шутку.
По-настоящему он вошел в мою жизнь только после смерти моей матери, причем так, что я этого никогда не забуду. Я точно знал, что он погиб во время войны в газовой камере, казненный как еврей вместе с женой и обоими детьми, которым тогда было, думаю, лет около пятнадцати-шестнадцати. Но только в 1956 году я узнал о его трагическом конце то, что потрясло меня до глубины души. Вернувшись из Боливии, где был поверенным в делах, я приехал в Париж, чтобы получить Гонкуровскую премию за свой недавно опубликованный роман «Корни неба». Среди писем, присланных по этому случаю, оказалось одно, которое и сообщило мне подробности о смерти человека, которого я так мало знал.
Он умер вовсе не в газовой камере, как мне говорили. Он умер от страха, по пути к месту казни, за несколько шагов до входа.
Написавший мне письмо был тогда приставлен к двери приемщиком — не знаю, как это еще назвать и какую должность он официально исполнял.
В своем письме, очевидно чтобы утешить меня, он писал, что мой отец до газовой камеры не дошел и упал замертво от страха перед самым входом.
Я долго стоял с письмом в руке; затем вышел на лестницу издательства Н. Р. Ф.[49], оперся о перила и пробыл там не знаю сколько времени — в своем сшитом в Лондоне костюме, со своим званием поверенного в делах, с крестом «За Освобождение», орденской ленточкой Почетного легиона и Гонкуровской премией.
Мне повезло — в тот момент мимо проходил Альбер Камю[50] и, видя, что я не в себе, отвел в свой кабинет.
Человек, умерший такой смертью, был мне прежде чужим, но в тот день он раз и навсегда стал моим отцом.
Я продолжал декламировать басни Лафонтена, стихотворения Деруледа и Беранже и читать произведение, озаглавленное «Назидательные сцены из жизни выдающихся людей», толстенный том в синей обложке с тисненной золотом гравюрой, изображавшей кораблекрушение из «Поля и Виргинии»[51]. Моя мать обожала повесть о Поле и Виргинии, которую находила особенно поучительной. Она мне частенько перечитывала один волнующий пассаж, где Виргиния предпочитает скорее утонуть, нежели снять с себя платье. Она всегда удовлетворенно сопела, читая его. Я внимательно слушал, но был уже слишком скептичен на сей счет. Я полагал, что Поль просто не сумел как следует взяться за дело, вот и все.