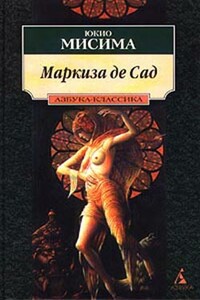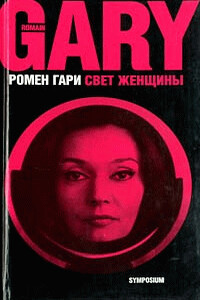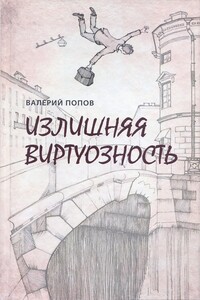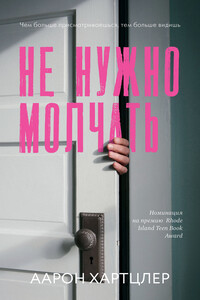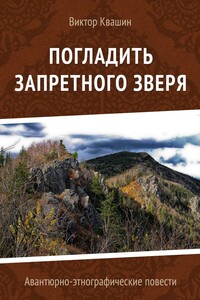Обещание на заре | страница 25
Должен сказать, что даже для такого городишки, как Вильно, этой ни литовской, ни польской, ни русской провинции, где еще не существовало даже газетной фотографии, придуманная моей матерью хитрость была довольно дерзкой и вполне могла снова отправить нас на большую дорогу вместе с пожитками.
В самом деле, очень скоро «элегантному обществу» города были разосланы приглашения на торжественное открытие «Нового Дома Высокой Моды» (улица Большая Погулянка, 16, в четыре часа пополудни), где говорилось между прочим, что его почтит своим присутствием сам г-н Поль Пуаре, специально прибывший из Парижа.
Как я уже сказал, моя мать, приняв решение, всегда шла до конца и даже чуть дальше. В назначенный день, когда толпа толстых, расфуфыренных дам уже теснилась в нашей квартире, она отнюдь не объявила, что «г-н Поль Пуаре задерживается в силу обстоятельств и просит его извинить». Такого рода мелкие уловки были не в ее характере. Решившись на большую игру, она сама сотворила г-на Поля Пуаре.
Во времена своей «театральной карьеры» в России она знавала одного актера — француза, бесталанного и безнадежного куплетиста, вечного провинциального гастролера по имени Алекс Гюбернатис. Он потом прозябал в Варшаве, мастеря парики для театра, после того как изрядно обуздал свои амбиции и скатился от бутылки коньяка к бутылке водки в день. Моя мать отправила ему железнодорожный билет, и восемь дней спустя в салоне «Нового Дома» Алекс Гюбернатис воплотился в великого мастера высокой парижской моды Поля Пуаре. По этому случаю он показал все, на что был способен. Облаченный в невообразимую шотландскую накидку и ужасно облегающие панталоны в мелкую клеточку, из которых торчала, когда он нагибался чмокнуть ручку какой-нибудь из дам, пара мелких, костлявых ягодиц, в галстуке пышным бантом под выпирающим кадыком, он развалился в кресле, вытянул непомерно длинные ноги на свеженатертый паркет и, с бокалом игристого вина в руке, принялся расписывать писклявым голосишком восторги и упоения парижской жизни, поминая имена знаменитостей, уж двадцать лет как сошедших со сцены, и время от времени пробегал вдохновенными пальцами по своей накладной шевелюре, как Паганини по струнам. К несчастью, ближе к вечеру, когда игристое сделало свое дело, он, потребовав тишины, затеял декламировать собравшимся второй акт «Орленка»