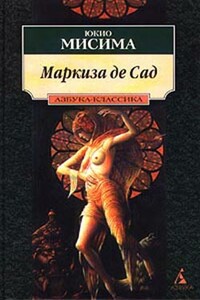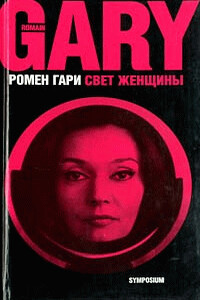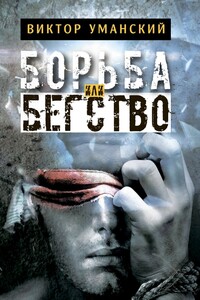Обещание на заре | страница 15
Должен сказать, что к ругани у моей матери был подлинный дар: всего в нескольких удачно подобранных словах ее поэтически-ностальгической натуре удавалось воссоздать атмосферу горьковского «На дне»[18] или, на худой конец, «Бурлаков на Волге»[19]. Любого пустяка хватало, чтобы эта благообразная седовласая дама, внушавшая такое доверие покупателям «фамильных драгоценностей», вдруг начинала воскрешать перед ошарашенной публикой всю Святую Русь с ее пьяными конюхами, мужиками и фельдфебелями; она, несомненно, обладала великим талантом исторически точно воссоздавать былое голосом и жестом, и эти сцены, похоже, вполне подтверждали, что она и впрямь была в молодости великой драматической актрисой, как сама утверждала.
Тем не менее мне так и не удалось до конца прояснить этот последний пункт. Разумеется, я всегда знал, что моя мать была «драматической актрисой», — с какой гордостью она всю жизнь произносила эти слова! — и я до сих пор помню себя рядом с ней, в возрасте пяти-шести лет, в какой-то заснеженной глуши, где мы плутали по случаю ее театральных выездов, в санях с тоскливыми колокольчиками, которые везли нас с промерзшего завода, где она только что «играла Чехова» перед рабочими местных Советов, или из казармы, где «читала стихи» перед революционными солдатами и матросами. Помню себя также в Москве, в ее крохотной театральной гримерной; я сидел на полу и играл с разноцветными лоскутками, пытаясь подобрать гармоничное сочетание, — моя первая попытка выразить себя в творчестве. Помню даже название пьесы, в которой она тогда играла: «Собака на сене»[20]. Мои первые детские воспоминания — это театральные декорации, восхитительный запах дерева и краски, пустая сцена с бутафорским лесом, по которому я опасливо крадусь и вдруг застываю от ужаса перед необъятным, зияющим и черным залом; я опять вижу загримированные лица странного бежевого оттенка, с обведенными белым и черным глазами, которые склоняются надо мной с улыбкой; какие-то причудливо одетые мужчины и женщины держат меня на коленях, пока моя мать на сцене; помню еще советского матроса, который поднимает меня и сажает себе на плечи, чтобы я мог увидеть мать, играющую Розу в «Крушении надежд». Помню даже ее театральный псевдоним, это были первые русские слова, которые я научился читать сам, они были написаны на двери ее гримерной: Нина Борисовская. Вполне похоже, что ее положение в тесном мирке русского театра 1919–1920 годов было довольно прочным. Хотя Иван Мозжухин