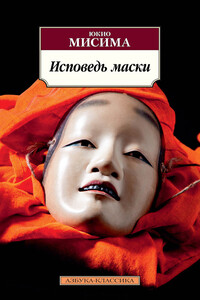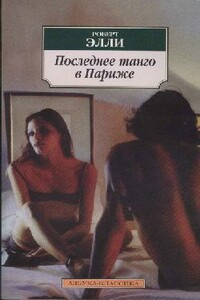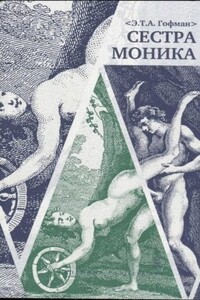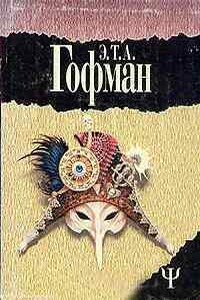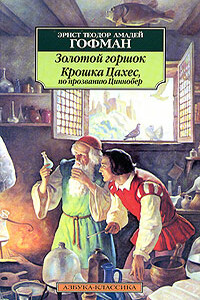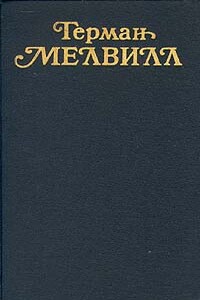Гость Дракулы и другие истории о вампирах | страница 38
Начало 1930-х годов ознаменовалось появлением двух выдающихся фильмов на вампирскую тему, выдержанных в принципиально разной эстетике и имевших, соответственно, различную зрительскую судьбу. «Вампир, или Странное приключение Дэвида Грея» (1932) датского режиссера Карла Теодора Дрейера — это более чем вольная экранизация «Кармиллы»: из повести ирландского писателя создатель фильма заимствовал лишь некоторые мотивы, фабула же подменена чередой кошмарных видений, в которых явственно читается опыт сюрреализма. Снятый в «сновидческой» манере и периодически «испытывающий метафизические границы изображения»[115] (например, в сцене, где главный герой наблюдает из гроба за собственными похоронами, заставляющей зрителя идентифицировать себя с мертвецом), «Вампир» оказался слишком сложным для восприятия публики и провалился в прокате, вызвав десятилетний перерыв в карьере Дрейера, однако, как и другие картины режиссера, он вошел в число безусловных шедевров мирового кино. Между тем поставленный годом раньше «Дракула» (1931) американца Тода Браунинга с Белой Лугоши в заглавной роли имел совсем иную прокатную судьбу. Став первым звуковым фильмом о трансильванском вампире и первым в длинной череде лент с участием так называемых монстров студии «Юниверсал» (среди которых значатся также чудовище Франкенштейна, Мумия, Человек-невидимка и Человек-волк), «Дракула» Браунинга явил зрителю пафосный образ аристократа в черном плаще с высоким воротом, наделенного странным акцентом (то был слегка утрированный акцент самого Лугоши — венгра, плохо говорившего по-английски) и сознанием своего превосходства над окружающими. Несмотря на композиционную рыхлость и излишне аффектированную манеру игры исполнителя главной роли, этот фильм (в сюжетном отношении гораздо более близкий к тексту романа, чем картина Мурнау) снискал колоссальный зрительский успех, принес студии огромную прибыль и в одночасье сделал малоизвестного актера-иммигранта кинозвездой. С этого момента началось тиражирование однажды найденного образа — спустя несколько лет, опять надев знаменитый плащ и грозно нахмурив брови, Лугоши вышел на съемочную площадку нового вампирского фильма («Знак вампира» (1935) все того же Браунинга), а затем всевозможные «дочери» и «сыновья» Дракулы, при участии уже других актеров (а также других студий и монстров), заполонили экран: монополизированный Голливудом жанр сделался площадкой для эпигонских упражнений, постепенно скатываясь в самопародию и питая интенсивно развивавшуюся комикс-культуру.